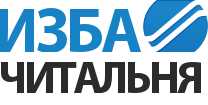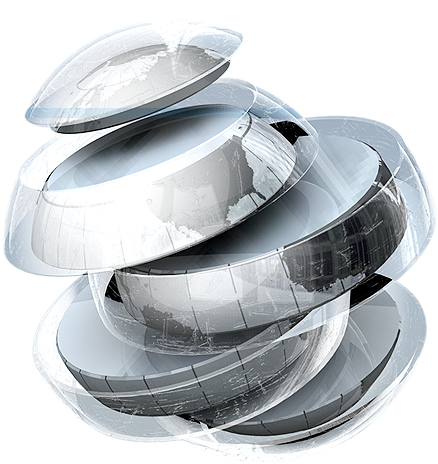“ТЕНЦИНГ, ЗИНДАБАД!”
И радость пришла. А за ней и кое-что другое. Но сначала радость.
На следующий день снова выдалась замечательная погода, сияло солнце. И хотя мы, конечно, устали и ослабели после трехдневного пребывания на такой высоте, мы совершили длинный переход вниз с Южного седла в приподнятом настроении. Англичане оставили большую часть своих вещей в лагере 8, я же нес три-четыре сумки со снаряжением, флягу и один из двух фотоаппаратов Лоу, забытый им от волнения. В пути яам встречались поджидавшие нас друзья. В лагере 7 майор Уайли и несколько шерпов; ниже лагеря 6 — Том Стобарт со своим киноаппаратом. В лагере 5 собрались еще шерпы, в том числе Дава Тхондуп и мой молодой племянник Гомбу. Каждая новая встреча сопровождалась взволнованными разговорами; в лагере 5 шерпы напоили нас чаем и настояли на том, чтобы нести мой груз всю остальную часть пути.
Наконец, в лагере 4, на передовой базе экспедиции, нас ожидала основная группа. Они поспешили навстречу, едва мы ступили на длинный снежный склон цирка, и мы сначала не показали виду, что возвращаемся с победой. Однако, когда оставалось около пятидесяти метров, Лоу уже не мог больше сдерживаться, поднял вверх руку с отставленным большим пальцем и указал зажатым в другой руке ледорубом в сторону вершины. С этой минуты началось ликование, какого, сдается мне, Гималаи не наблюдали за всю свою историю. В тяжелых ботинках, по глубокому снегу товарищи спешили нам навстречу чуть ли не бегом. Хант обнял Хиллари и меня. Я обнял Эванса. Все обнимали друг друга.
— Это правда? Это правда? — твердил Хант снова и снова. И опять восторженно обнимал меня. Глядя на нас со стороны в ту минуту, никто не увидел бы какого-либо различия между англичанами и шерпами. Все мы были просто восходители, успешно штурмовавшие вершину.
Несколько часов мы пили, ели и отдыхали — и рассказывали, рассказывали без конца, это был чудесный вечер, наверное, самый счастливый в моей жизни. Я не знал в тот момент, что уже тогда произошли события, вызвавшие впоследствии немалые осложнения и недоразумения. Незадолго до того индийское радио передало неверное известие, будто мы потерпели неудачу. Теперь англичане послали победную весть — гонец доставил ее в Намче-Базар, а оттуда по радио сообщили в Катманду. Но телеграмма была зашифрована и адресована лично английскому послу, который переправил ее в Лондон, а других известил только спустя сутки. Насколько я понимаю, англичане хотели, чтобы первой узнала новость королева Елизавета, а последующее опубликование известия должно было явиться звеном коронационных торжеств. Для англичан это подошло как нельзя лучше, восторгам и ликованию не было предела, зато для многих жителей Востока получилось как раз наоборот: они узнали новость с опозданием на день, и притом с противоположного конца света. В таком положении оказался даже король Непала Трибхувана, в чьей стране находится Эверест!
Я уже сказал, что ничего не знал в тот момент — я сам мог бы сразу же послать шерпского гонца в Намче-Базар, и, возможно, все получилось бы иначе. Но я спросил себя: “Зачем?” Я работал на англичан: как говорим мы, шерпы, я “ел их соль”. Они организовали экспедицию — почему бы им не действовать по-своему в дальше? Итак, я не стал посылать никакого гонца и допросил остальных шерпов не сообщать никому новость, пока она не будет обнародована. А позднее стали болтать, будто я поступил так потому, что меня подкупили англичане, говорили даже, что меня подкупили, чтобы я говорил, будто Эверест взят, тогда как на деле мы не взяли его. На первое из этих обвинений отвечу только, что это совершенная неправда. Второе обвинение настолько смехотворно, что на него и отвечать не стоит.
Говоря, что я не послал никакой вести, я имею в виду официальное сообщение, предназначенное для опубликования. Впервые за много недель я был в состоянии думать о чем-то помимо восхождения, помимо ожидавшей меня вершины. Мои мысли обратились к любимым, которые ждали меня дома, и в эту ночь в лагере 4 один из моих друзей написал с моих слов письмо Анг Ламу. “Это письмо от Тенцинга, — говорилось в нем. — Вместе с одним англичанином я достиг вершины Эвереста 29 мая. Надеюсь, вы будете рады. Больше писать не могу. Простите меня”. После этих слов я подписал свое имя.
В лагере 4 я провел одну ночь. Половину ночи мы праздновали, половину — отдыхали. На следующее утро я думал только о том, чтобы завершить спуск — за один день прошел вниз по цирку и ледопаду, затем до базового лагеря вместе с шерпами Анг Черингом и Гомбу, моим племянником. “Теперь я свободен, — думал я все время. — Эверест освободил меня”. Я был счастлив, потому что не знал, насколько ошибаюсь... В базовом лагере я также провел лишь одну ночь, после чего прошел больше шестидесяти километров вниз по ледникам и долинам до Тами повидать мать. Я рассказал ей о нашей победе, и она была очень обрадована. Глядя мне в лицо, мать сказала:
— Сколько раз я отговаривала тебя ходить на эту гору! Теперь тебе не надо больше идти туда.
Всю свою жизнь она верила, что на вершине Эвереста обитают золотая птичка и лев из бирюзы с золотой гривой, — пришлось разочаровать ее, когда она спросила меня об этом. Зато на вопрос, видел ли я с вершины Ронгбукский монастырь, я смог ответить утвердительно, и это очень порадовало ее.
Я пришел в Тами один и провел здесь два дня с матерью и младшей сестрой. Впервые с самого детства я пробыл так долго в родной деревне. Все приходили повидаться со мной, чанг лился рекою, и я готов сознаться, что “утратил спортивную форму”, как говорят англичане. Но затем, памятуя о своих обязанностях, подобрал около ста носильщиков для доставки снаряжения обратно в Катманду и отправился с ними в Тьянгбоче. Перед уходом я спросил мать, не согласится ли она пойти со мной в Дарджилинг и поселиться там у меня. Она ответила: “Это было бы неплохо, но я очень стара, тебе будет слишком много хлопот со мной”. Как я ни настаивал, она продолжала отказываться. Пришлось мне еще раз расстаться со своей ама ла. Зато по пути из Тами в Тьянгбоче я встретил старшую сестру Ламу Кипу с мужем и двумя дочерьми, и они согласились переехать ко мне.
Тем временем экспедиция группа за группой возвращалась с горы в Тьянгбоче, и здесь царило страшное возбуждение и переполох. Было очень трудно найти достаточное количество носильщиков — близился период муссона, дождей, и мало кто соглашался идти с нами. К тому же взятие Эвереста вызвало почти столько же огорчения, сколько радости; шерпы опасались, что теперь не будет больше экспедиций, не будет работы. А ламы (они всегда относились неодобрительно к попыткам взять Эверест) пророчили, что наш успех навлечет на всех немилость богов. Наконец нам удалось кое-как все уладить, и мы приготовились выступить в путь. Полковник Хант заявил, что пойдет впереди главного отряда. Ему предстояли срочные дела, в том числе согласование моей поездки в Англию. Этого я не предвидел. Думая о будущем, я представлял себе только, что вернусь в Дарджилинг, отдохну, а затем, если хватит денег, построю себе новый домик. Я все еще не имел ни малейшего представления о том, что меня ожидало.
Очень скоро, однако, я обнаружил, что отныне вся моя жизнь пойдет иначе. Уже в Тьянгбоче мне вручили телеграмму от Уинстона Черчилля, а затем последовал целый поток посланий. Мне и самому хотелось отправить одно послание: передать Анг Ламу, чтобы она вместе с дочерьми встречала меня в Катманду. Я сказал об этом майору Уайли, добавив, что сам заплачу гонцу. Как всегда, он охотно вызвался помочь мне: послание было отправлено за счет экспедиции. И в последующие дни нашего долгого путешествия до Катманду Уайли всячески заботился обо мне: давал добрые советы, помогал объясняться с иностранцами и отвечать на письма.
— Вы видите теперь, какая жизнь вам предстоит, — говорил он мне.
А между тем это было только начало, меня ожидал еще не один горький урок.
Мы шли вверх и вниз по холмам и долинам Непала. С каждым днем толпы встречающих и восторги все возрастали. Спустя примерно десять дней, когда нас отделяло от Катманду восемьдесят километров, я получил приятную новость, что Анг Ламу уже прибыла туда с девочками. Однако большинство людей приходило к нам не с новостями, а за новостями. Вскоре я шел в окружении целого отряда журналистов. Были здесь непальцы, индийцы, англичане, американцы, и кроме рассказа о восхождении многие из них добивались от меня всякого рода заявлений по национальным и политическим вопросам. Майор Уайли заранее предупредил меня, что так будет, и посоветовал быть осторожным; теперь я всячески старался следовать его совету.
Это было нелегко. Множество людей вертелось вокруг, засыпая меня целым градом вопросов, причем на половину вопросов они, сдается мне, тут же сами и отвечали. В Хуксе я дал интервью Джеймсу Бэрку из журнала “Лайф”, купившему у “Тайме” право на информацию об экспедиции для Америки. Несколько позже я встретился с корреспондентом “Юнайтед Пресс Ассошиэйшнс” Джоном Главачеком, с которым впоследствии подписал договор на серию статей. Англичане были в этом отношении связаны: перед началом экспедиции они подписали соглашение, что все их рассказы и фотографии будут считаться собственностью всей экспедиции в целом, которая, в свою очередь, имела контракт с “Тайме”. Я же, хотя и считался членом эксцедиции, не был связан таким обязательством и мог заключать сделки по своему выбору. В Катманду и позднее в Нью-Дели по этому поводу были споры и дискуссии. Полковник Хант убеждал меня присоединиться к контракту с “Тайме”. Однако я отказался. Впервые за всю мою жизнь у меня появилась возможность заработать крупную сумму денег, и я не видел, почему бы мне не воспользоваться этой возможностью.
Но это были все мелочи. Настоящие осложнения начались в Дхаулагхате, немного не доходя Катманду, где навстречу нам вышла целая толпа непальцев и чуть не увела меня от всей экспедиции. После меня не раз спрашивали, были ли это коммунисты, но я просто не знаю этого. Зато я знаю, что они были националисты, притом фанатики, что их ничуть не интересовал Эверест и действительные обстоятельства его взятия, а только и исключительно политика. Они добивались от меня, чтобы, я назвался непальцем, не индийцем. И еще — чтобы я заявил, что достиг вершины раньше Хиллари. Я ответил им, что не заинтересован в политике и в ссорах с англичанами, и попросил оставить в покое. “До сих пор, — сказал я им, — никому не было дела до моей национальности. С чего вдруг такой" интерес теперь? Индиец, непалец — какая разница?” Я пытался внушить им то же самое, что сказал в интервью Джеймсу Бэрку: “Все мы члены одной большой семьи — Хиллари, я, индийцы, непальцы, все люди на свете!”
Однако они никак не хотели угомониться. Они чуть не свели меня с ума. Они сами подсказывали мне ответы и заставляли подписывать бумаги, которых я даже не мог прочесть. И все это время толпа продолжала расти. Меня отделили от моих товарищей, толкали и вертели, словно куклу. “Чего они хотят от меня? — удивлялся я. — Знай я, что дело обернется таким образом, я оставался бы у себя в Солу Кхумбу”.
20 июня наш отряд спустился с предгорий на Непальскую равнину. В Банепе, где начинается шоссе, меня усадили в “джип” и заставили переодеться в непальскую одежду. К этому времени я до того устал и растерялся, что позволял делать с собой все что угодно. В каждом городе и деревне, через которые мы проезжали, происходили торжественные встречи. Толпы людей размахивали флажками и вымпелами. “Тенцинг, зиндабад!” — кричали они. “Да здравствует, Тенцинг!”
Конечно, мне были приятны такие горячие приветствия. Однако признаюсь, что предпочел бы вернуться домой тихо и мирно, как это бывало всегда до тех пор.
В пяти километрах от Катманду меня поджидали жена и дочери; мы крепко обняли друг друга, счастливые завоеванной победой. Анг Ламу обернула вокруг моей шеи кхада — священный платок. Пем-Пем и Нима повесили мне на плечи гирлянды, я рассказал Ниме, что положил ее карандашик там, где она просила. Оказалось, что в течение последних недель у них была почти такая же суматошная жизнь, как у меня. Великую новость они узнали в Дарджилинге только утром 2 июня, в дождливый серый день, от друзей, услышавших ее по радио. С этой минуты жизнь их совершенно изменилась. Важные чиновники приходили к ним с визитом, почта приносила множество посланий, строились всевозможные планы. По всему городу распространялись мои фотографии, а Рабиндранат Митра договорился с одним поэтом, и тот сочинил про меня песню, которую скоро распевали на всех улицах. Все это очень радовало моих родных, но больше всего им хотелось получить весточку от меня; между тем письмо, в котором я просил их приехать в Катманду, так и не дошло. Анг Ламу и сама собиралась ехать, только боялась, что я рассержусь, если она сделает это, не договорившись предварительно со мной.
— Почему нет телеграммы от моего мужа? — спрашивала она то и дело, — Я дам десять рупий тому, кто доставит мне ее с почты.
Но телеграмма все не шла (я так и не смог выяснить, что с ней случилось), и, прождав одиннадцать дней, Анг Ламу решила ехать, будь что будет. У нее не было ни денег, ни подходящей одежды, но Митра дал ей сто рупий, заработанных на продаже моих фотографий, да потом раздобыл еще четыреста рупий на поездку с помощью миссис Гендерсон и других друзей. Анг Ламу выехала из Дарджилинга с дочерьми и прибыла в Катманду самолетом через Патну, опередив меня на четыре дня. С ними прилетели Пасанг Пхутар (уже третий), ветеран-горец, наш близкий друг и родственник, и Лакпа Черинг, представлявший нашу ассоциацию.
Впрочем, в тот сумасшедший день, когда я сам добрался до Катманду, у нас вовсе не было времени переговорить обо всем этом. Не прошло и нескольких минут, как меня оторвали от родных и усадили вместо “джипа” в коляску, запряженную лошадьми; туда же сели другие восходители, которых я не видел некоторое время, в том числе Хант и Хиллари. И вот мы двинулись через город, окруженные еще невиданной толпой. Нас осыпали рисом, цветной пудрой, монетами, причем монеты колотили меня по черепу так, что я стал опасаться головной боли. Спастись от них было невозможно, потому что я не мог смотреть во все стороны одновременно. Большую часть времени я стоял в коляске, улыбаясь и сложив ладони в традиционном древнем индийском приветствии намаете.
Событий было столько, что трудно вспомнить, что происходило раньше, что позже.
Прямо в нашей испачканной экспедиционной одежде нас доставили в королевский дворец. Здесь участников восхождения приветствовал король Трибхувана, он вручил мне Непал Тара (Непальскую Звезду) — высшую награду страны; Хант и Хиллари получили другие награды. Как и многие другие обстоятельства этого времени, вопрос о почестях и полученных знаках отличия дал повод к осложнениям и недоразумениям. Дело в том, что в то самое время, когда мне вручили одну непальскую награду, а Ханту и Хиллари — другую, не столь высокую, из Англии поступило сообщение, что королева возвела их в дворянское звание, а в отношении меня ограничились медалью Георга VI. Шум, поднятый вокруг всего этого, был не только нежелательным, но просто бессмысленным. После того как Индия стала независимой, ее правительство, подобно американскому правительству ранее, запретило своим гражданам принимать иностранные титулы. Таким образом, если бы королева и удостоила меня такой чести, то я сам и моя страна оказались бы только в неловком положении. Лично для меня это было каи чаи на — совершенно безразлично; дворянское звание не прибавило бы мне ни ума, ни красы. Поняв причину, я ничуть не чувствовал себя обиженным или задетым.
Политика, политика... Внезапно со всех сторон начались осложнения. Непальцы отнеслись ко мне замечательно, они встретили меня так, что я не забуду, даже если проживу сто жизней. Однако в своих усилиях сделать из меня героя они зашли чересчур далеко: они почти совершенно пренебрегали англичанами, вместо того чтобы отнестись к ним как к почетным гостям. Слишком многие непальцы говорили глупые вещи, стараясь извратить факты в своих политических целях. Каких только диких выдумок не было: и что я тащил Хиллари на себе до вершины, и что он вообще не дошел до верха, и что я чуть ли не один совершил все восхождение. А тут еще эти нелепые заявления, которые меня заставили подписать, воспользовавшись моей растерянностью. Кончилось тем, что полковник Хант вышел из себя и заявил, что я не только не герой, но с точки зрения техники лазанья вообще второразрядный альпинист. А это, разумеется, только подлило масла в огонь.
Непальские и индийские журналисты ходили за мной по пятам. Руководствуясь политическими мотивами, кое-кто пытался заставить меня высказаться против англичан, а я, обидевшись на слова Ханта, и в самом деле сказал кое-что, о чем позже сам сожалел. К счастью, добрая воля в наших сердцах восторжествовала. Ни англичане, ни я сам не хотели, чтобы великое событие было превращено в нечто мелкое и жалкое. И вот мы собрались 22 июня в канцелярии премьер-министра Непала и составили заявление, призванное положить конец всем разнотолкам. Один экземпляр, предназначенный для Хиллари, подписал я, другой — для меня — подписал Хиллари. Вот что написано в том экземпляре, который хранится у меня сейчас:
“29 мая мы с шерпом Тенцингом вышли из нашего верхнего лагеря на Эвересте на штурм вершины.
Во время восхождения на Южную вершину то один, то другой из нас шел впереди.
Мы перешли через Южную вершину и стали подниматься по предвершинному гребню. Мы достигли вершины почти одновременно.
Мы обняли друг друга, счастливые своей победой; затем я сфотографировал Тенцинга с флагами Великобритании, Непала, Объединенных Наций и Индии. Э. П.Хиллари”
Каждое слово в этом заявлении есть истинная правда. Именно так — мы достигли вершины <почти одновременно>. И так оно и оставалось до настоящего времени, когда по причинам, которые я уже изложил, мне кажется правильным рассказать все подробности.
Наряду с вопросом о том, кто первый достиг вершины, было много толков и споров относительно моей национальности. “Какое это имеет значение? — спрашивал я снова и снова. — При чем тут национальность и политика, когда речь идет о восхождении па гору?” Но разговоры не прекращались, и я решил обратиться к премьер-министру мистеру Коирала. Я сказал ему:
— Я люблю Непал. Я родился здесь, это моя страна. Но теперь я уже давно живу в Индии. Мои дети выросли там, и мне надо думать об их образовании, об их будущем.
Мистер Коирала и остальные министры отнеслись ко мне приветливо, с полным пониманием. Они не пытались, подобно некоторым другим, оказывать давление на меня, а только сказали, что если я захочу остаться в Непале, то получу дом и другие льготы; далее они пожелали мне успеха и счастья независимо от того, каким будет мое решение. Я остаюсь им глубоко благодарен за готовность помочь, когда я оказался в затруднительном положении. Как я сказал тогда для печати: “Я рожден из чрева Непала, а вырос на коленях Индии”. Я люблю обе страны, чувствую себя сыном их обеих.
В Катманду мы оставались около недели, и каждый день устраивались новые торжества, новые церемонии, но происходили также новые осложнения. На этот раз мы, шерпы, спали не в гараже, а в непальской правительственной гостинице, так что в этом отношении все было в порядке. Впрочем, не совсем в порядке — приходилось защищать нас от толпы, которая осаждала экспедицию.
На один из вечеров в английском посольстве был назначен прием. Я получил приглашение, но отказался прийти; как и многое другое, это вызвало всевозможные пересуды, поэтому я объясню причину отказа. Дело в том, что годом раньше, находясь в Катманду вместе со швейцарцами, я пережил здесь неприятность. Из-за какой-то путаницы с организацией экспедиции я оказался однажды без ночлега и обратился тогда в английское посольство, поскольку останавливался там вместе с Тильманом в 1949 году. Меня ожидало разочарование: полковник Пруд, первый секретарь посольства, указал мне на дверь. Меня это сильно обидело, а так как в 1953 году полковник Пруд по-прежнему работал в посольстве, я не счел для себя возможным принять приглашение. Такова единственная причина моего отказа, он вовсе не был задуман как недружественный жест в отношении моих товарищей по Эвересту.
Но вот я оставил Катманду, вылетев в Калькутту в личном самолете короля Трибхувана. Вместе со мной летели только моя семья и Лакпа Черинг, который стал для меня чем-то вроде советника. Остальные направились в Индию другими путями. В Калькутте нас поместили в Доме правительства — снова празднества, приемы, приветствия... Среди встретивших нас здесь был мой добрый друг Митра — я вызвал его по телеграфу из Дарджилинга. Первым делом я вручил ему красный шарф Раймона Ламбера и попросил переслать в Швейцарию. В Калькутте же я рассказал о восхождении для агентства “Юнайтед Пресс”, с которым подписал здесь контракт.
Несколько дней было похоже, что я не попаду в Англию. Мне казалось неправильным ехать без Анг Ламу и дочерей, а у экспедиции не хватало денег оплатить проезд всем. Правда, тут газета “Дейли Экспресс” предложила мне совершить большое турне, обязавшись покрыть все расходы. Однако, подумав, я отказался, так как опасался, что этому будет придан политический характер, а после того, что случилось в Непале, я всячески избегал таких вещей. Вместо этого я, все еще надеясь, что выход будет найден, отправился из Калькутты в Нью-Дели, где собрались остальные участники экспедиции.
В Дели происходило то же, что в Катманду и Калькутте, только в еще больших масштабах. На аэродроме состоялась грандиозная встреча — такой толпы я не видал за всю свою жизнь. Затем нас привезли в непальское посольство и устроили там.
В тот же вечер состоялся прием у Неру. Настал великий момент, о котором давным-давно говорил профессор Туччи в Тибете и о котором я думал в ту ночь в палатке высоко на Эвересте. Все произошло так, как я надеялся и мечтал. С первого же мгновения Пандит-джи40 отнесся ко мне, как отец, — ласково и дружелюбно, причем в отличие от многих других думал не о том, какую выгоду можно извлечь из меня, а исключительно о том, как помочь мне и сделать меня счастливым. На следующий день Неру пригласил меня в свою канцелярию и настоятельно посоветовал мне поехать в Лондон. Он считал, что и так уже вокруг восхождения было слишком много осложнений и споров, что лучше не примешивать к Эвересту политику. Он надеялся, что будет сделано все возможное, чтобы залечить причиненные раны. Я присоединился к его словам от всего сердца. И наконец, для полноты счастья оставалось только услышать от него, что моей жене и дочерям будет обеспечен проезд до Лондона вместе со мной.
Однако Пандит-джи не ограничился этим. У меня было плохо с одеждой; он пригласил меня к себе домой, открыл гардероб и поделился своим. Он дал мне пиджаки, брюки, рубашки — все необходимое, а так как мы с ним одного роста, то все отлично подошло. Сверх того Неру подарил мне несколько вещиц, которые принадлежали его отцу и которыми он очень дорожил. Анг Ламу получила красивую сумочку и плащ, причем Пандит-джи сказал с улыбкой, что в Лондоне часто бывает хмурая погода. Наконец, он вручил мне портфель. Я подумал: “Теперь я больше не бедный шерп, а бизнесмен или дипломат”. Чуть не единственное из одежды, чем он со мной не поделился, были белые конгрессистские шапочки — это имело бы политический смысл, а Неру был совершенно согласен, что мне следует держаться в стороне от политики.
В это же время возник вопрос о документах: несмотря на все мои путешествия, у меня до сих пор не было паспорта. Зато теперь я получил сразу два, индийский и непальский, что как раз отвечало моим собственным желаниям. Спустя несколько дней мы вылетели на Запад. Других шерпов с нами не было, за исключением Лакпа Черинга, который по-прежнему был моим секретарем и советником. Остальные шерпы, участники восхождения, не попали ни в Калькутту, ни в Дели, а вернулись прямо в Дарджилинг из Катманду. Зато в самолете находилось большинство английских членов экспедиции, а из женщин кроме Анг Ламу и моих дочерей еще и миссис — вернее, уже леди — Хант. Она прилетела встретить своего мужа, когда мы были еще в Непале. Наш самолет, принадлежавший британской авиационной корпорации, совершил первую посадку в Карачи, где мы задержались около часа, приветствуемые огромной толпой. Далее мы летели через Багдад, Каир, Рим. Наконец-то я видел страны за пределами Индии и Пакистана, о чем так давно мечтал!
В Риме нас встречали индийский и английский послы, там нам пришлось переночевать из-за неполадок с мотором. На следующее утро, когда мы снова сели в самолет, полковник Хант выглядел заметно озабоченным, и я очень скоро узнал, чем именно. Оказывается, газеты как раз напечатали первую часть моего рассказа для “Юнайтед Пресс”, в которой шла, в частности, речь об известных недоразумениях во время экспедиции между англичанами и шерпами. Хант подошел ко мне тут же в самолете, и мы переговорили обо всем начистоту. Я сказал ему, как меня задело его заявление для печати, будто меня нельзя считать опытным альпинистом, а он, в свою очередь, рассказал о своих затруднениях. Майор Уайли еще раньше обсуждал со мной это дело. Он подчеркивал, как важно, чтобы случившиеся недоразумения не послужили поводом для неприязни, и я согласился с ним. Теперь я повторил то же самое Ханту. Известные недоразумения <имели> место во время экспедиции и после. Отрицать это не было никакого смысла, и я просто рассказал корреспонденту все так, как оно мне представлялось, стараясь быть совершенно искренним. Но это вовсе не означало, что я затаил обиду или пытаюсь раздуть происшедшее, как это сделали другие в политических целях.
Мы говорили дружески и откровенно, и я думаю, что мы оба почувствовали себя лучше после этого разговора.
После Рима самолет совершил посадку в Цюрихе. Мы задержались здесь очень недолго, но это было для меня чудесное время, потому что на аэродром встретить меня приехали многие старые швейцарские друзья. И самое главное, среди них был Ламбер. Он крепко обнял меня, воскликнув: “Зa va bien!”, a я рассказал ему про заключительный подъем, про то, как вспоминал его, когда стоял на вершине. Затем мы вылетели дальше, в Лондон. Перед самой посадкой полковник Хант спросил, не буду ли я возражать, если он выйдет из самолета первый, держа в руке ледоруб с английским флагом. Разумеется, я согласился. Так и сделали, и скоро мы уже стояли на аэродроме, окруженные большой толпой встречающих.
В Лондоне меня с семьей поселили в Индийском клубе; индийский посол мистер Кер отнесся к нам с исключительным вниманием. Сразу же по прибытии остальные члены экспедиции разъехались по всей Англии — повидать своих родных, так что я остался в городе чуть ли не один. Впрочем, мне, конечно, не приходилось ломать голову над тем, чем заняться. Большая часть времени уходила на то, чтобы встречаться с разными людьми и пожимать им руки, сверх того надо было давать интервью газетам, позировать фотографам, разъезжать по городу и присутствовать на всякого рода официальных собраниях. Англичане приняли меня исключительно тепло и заботливо. Они приветствовали меня, уроженца чужой, далекой страны, ничуть не менее горячо, чем своих соотечественников; я невольно сравнивал этот прием с тем, как встречали англичан непальцы.
Я побывал в стольких местах, что потерял им счет. Я говорил по радио, выступал по телевидению, не успев еще увидеть ни одного телевизора, давал одно интервью за другим. В конце концов у меня просто закружилась голова от бесконечных расспросов о том, что я чувствовал на вершине Эвереста.
— Послушайте, у меня есть предложение, — сказал я журналистам. — Следующий раз <вы> совершите восхождение на Эверест, а я буду репортером. Когда вы спуститесь, я спрошу вас тысячу и один раз, как вы себя чувствовали на вершине, и тогда вы будете знать не только, что я чувствовал на Эвересте, но и что чувствую сейчас.
Мы провели в Лондоне шестнадцать дней, которые пролетели, словно сон. Единственной неприятностью было то, что Пем-Пем заболела вскоре по приезде и ей пришлось провести все время в больнице. Зато Анг Ламу и Нима ходили со мной повсюду — по театрам, магазинам, достопримечательным местам. Один раз мы попали в увеселительный парк и катались там на американских горках. Они мне очень понравились, напомнив о спуске с горы на лыжах. Но Анг Ламу до того перепугалась, что все время стучала кулаком по моей спине, а когда катание кончилось, воскликнула:
— Ты что, убить меня хочешь?!
Как и положено женщине, она лучше всего чувствовала себя в магазинах, и скоро у нас набралось немало вещей, которые предстояло везти в Индию. К тому же люди постоянно делали нам подарки. Я высоко ценил их доброту, однако считал, что нам не следует брать слишком много.
— Почему? — удивлялись Анг Ламу и Нима.
— Потому что это нехорошо, — отвечал я. И начиналась семейная ссора. Помню, как мы зашли однажды в фотомагазин и хозяин предложил нам в подарок аппараты по нашему выбору. Нима немедденно отобрала себе дорогой “Роллейфлекс”, но тут вмешался я:
— Нет, нет, так не годится. Возьми что-нибудь попроще.
Впоследствии, уже в Дарджилинге, она сказала моему другу Митре:
— Папа поскупился, не захотел, чтобы у меня был хороший аппарат.
Тогда я возразил:
— Не я поскупился, а ты пожадничала. В том-то и вся беда с вами, женщинами, вы всегда страдаете жадностью.
Полковник Хант пригласил нас к себе домой — он жил за городом. Мы охотно поехали бы к нему, но не сочли возможным оставлять Лондон, пока не выздоровела Пем-Пем; зато мы дважды побывали у жившего поблизости майора Уайли. Я повидал много старых друзей, в том числе Эрика Шиптона и Хью Раттледжа, с которым мы поговорили всласть о прошлом. Меня глубоко тронул доктор Н. Д. Джекоб, тот самый, который так тепло отнесся ко мне в Читрале в годы войны, — он проехал около восьмисот километров, чтобы повидаться со мной.
За всем этим время проходило очень быстро. Порой, когда мне не нужно было встречаться с людьми или куда-то ехать, я отправлялся гулять по улицам Лондона. Эти прогулки доставляли мне громадное удовольствие. При этом я переодевался в европейскую одежду, чтобы меня не узнали, и иногда это удавалось. Для официальных целей я обычно надевал индийский костюм, пользуясь тем, что дал мне Неру в Пью-Дели.
Немного спустя в город стали съезжаться другие участники экспедиции, и наконец произошло самое выдающееся событие за все пребывание в Лондоне — представление королеве. Все улицы на пути в Букингемский дворец были переполнены людьми; большое впечатление произвела на меня дворцовая охрана в красных мундирах и высоких меховых шапках. Перед представлением королеве был подан чай под открытым небом, причем и здесь собралось множество людей, так много, что я боялся быть раздавленным. Но тут же я подумал: “Нет, мне грех жаловаться. Я хоть худой, а вот каково приходится бедной Анг Ламу?”
После чая нас провели в большой зал во дворце, где мы увидели королеву и герцога Эдинбургского. Здесь находились все члены экспедиции и их родные; королева и герцог вручили нам награды и знаки отличия. Затем подали освежающие напитки, и на секунду я было подумал, что опять очутился на Эвересте, потому что нам предложили... лимонад! Королева была очень приветлива и внимательна, расспрашивала меня о восхождении, о других экспедициях, в которых я участвовал. Полковник Хант стал было переводить для меня, но тут я обнаружил, что сам достаточно хорошо понимаю и отвечаю по-английски, и это, разумеется, очень меня порадовало.
После приема состоялся мужской обед, даваемый герцогом, причем мы были при всех наградах. Затем последовал еще прием. И завтра и послезавтра все продолжались приемы, большинство из которых давалось различными послами. Настал момент, когда вся моя жизнь казалась одним сплошным приемом, и я невольно подумал: “Что было бы со мной, если бы все это время я пил не чай и лимонад, а чанг?”
Но вот настало время прощаться с Лондоном. Хант, Уайли и многие другие пришли проводить нас, и всякий мог видеть, что между нами нет никакой неприязни. Англичане приняли меня замечательно. Английские восходители, мои друзья, были прекрасными людьми. Несмотря на мелкие недоразумения и усилия людей, которые пытались раздуть их, мы провели большую и успешную экспедицию. И если полковник Хант когда-нибудь снова возглавит экспедицию в Гималаи, он убедится, что я готов всячески помочь ему, хотя бы и не смог сам пойти с ним.
— До свидания! Счастливо! Счастливо вам долететь!
И вот мы уже в самолете, летим в обратном направлении, в Швейцарию. Экспедиция наконец-то окончилась совсем, я остался только со своей семьей и моим помощником Лхакпа Тшерингом. Швейцарский фонд содействия альпийским исследованиям, организовавший обе экспедиции 1952 года, пригласил меня провести две недели в Швейцарии. И снова нас ожидал грандиозный прием и приятные встречи. Правда, на этот раз мое время не было исключительно занято приемами, интервью и встречами с людьми. Проведя в Цюрихе всего одну ночь, я отправился со старыми друзьями в горы: теперь я получил возможность не только посмотреть знаменитые Альпы, но и походить по ним. Мистер Эрнст Фойц, представитель организации, и его жена сопровождали, заботились о нас.
Сначала мы направились в маленький горный курорт Розенлауи, где находится альпинистская школа, руководимая известным проводником Арнольдом Глатхардом. Мы поднялись на красивый пик Семилистокк. Оттуда доехали до Юнгфрау, остановились в гостинице на Юнгфрауйох, а на следующее утро совершили еще одно восхождение. В числе других вместе со мной шел Раймон Ламбер. Мы стояли на вершине, смотрели на простиравшуюся под нами землю и думали, наверное, одно и то же: если бы погода была тогда немного лучше и если бы нам сопутствовала удача, мы стояли бы так год назад на высочайшей точке земли.
На другие восхождения у меня не было времени, но я получил большое удовольствие; мне очень понравились надежные, крепкие скалы альпийских вершин. Особенно мне бросилось в глаза сходство швейцарских долин с моими родными местами в Солу Кхумбу, хотя, разумеется, высота и расстояния в Альпах гораздо меньше, чем в Гималаях. Еще мне было интересно видеть, как много людей ходит по горам — мужчины и женщины, старые и молодые, даже совсем маленькие дети.
Мы провели один день в Шамони, на французской территории. Здесь я встретил нескольких членов лионской экспедиции на Нанда Деви, знакомых мне по 1952 году, а также Мориса Эрцога, возглавлявшего великий штурм Аннапурны в 1950 году. Это был прекрасный человек, успешно прошедший через многие тяжелые испытания. Я восхищался тем, как уверенно он ведет свой автомобиль, несмотря на потерю пальцев на руках и ногах. К сожалению, время позволяло мне только посмотреть на Монблан, восхождение совершать было некогда. Впрочем, я сомневаюсь, нашлось ли бы место на горе для нас, даже если бы мы сделали попытку. Во время моего пребывания в Шамони там собралось столько альпинистов, что гора была похожа скорее на вокзал.
Не успел я оглянуться, как прошли и эти две недели. Настала пора распрощаться с друзьями — и снова мы в самолете, летим домой... “Домой, — подумал я. — Что меня ждет там после такого длительного отсутствия?” Я оставил Дарджилинг 1 марта, теперь было начало августа, и в течение всех этих пяти месяцев я почти непрерывно находился в пути. Я достиг вершины Эвереста. Я спустился с Эвереста совсем в другой мир. Я проехал полмира, меня приветствовали толпы людей, я встречался с премьер-министрами и монархами. “Все изменилось для меня, — думал я. — И вместе с тем, по существу, не изменилось ничего, потому что в глубине души я остаюсь все тем же старым Тенцингом...” Я еду домой, это так. Но что ждет меня дома? Что я буду делать? Что случится со мной?.. Сначала, очевидно, еще приемы, интервью, толпы людей, “зиндабад”. Ну а после?
Я взошел на свою гору, но ведь жизнь продолжается...
Вернуться: Тенцинг Норгей. Тигр снегов
Будь на связи
О сайте
Тексты книг о технике туризма, походах, снаряжении, маршрутах, водных путях, горах и пр. Путеводители, карты, туристические справочники и т.д. Активный отдых и туризм за городом и в горах. Cтатьи про снаряжение, путешествия, маршруты.