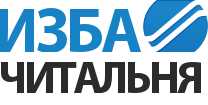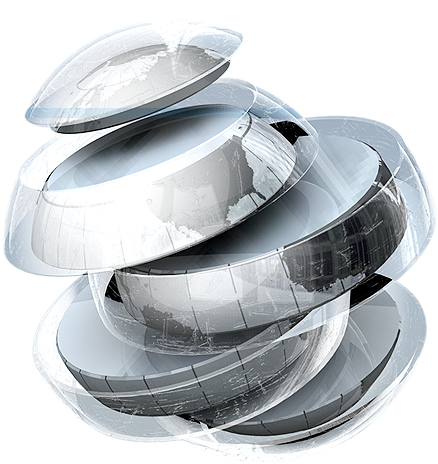Нина ВЕЛЬМИНА. ВРЕМЯ ЖИТЬ
Нина ВЕЛЬМИНА. ВРЕМЯ ЖИТЬ
Вельмина Нина Александровна. Окончила Московский институт инженеров транспорта, защищала диссертацию в Московском геологоразведочном институте. Гидрогеолог-мерзлотовед. Проектировала водоснабжение основных морских портов Арктики — Тикси, Диксона, Провидения. Более 20 лет проводила научные исследования в Арктике, на Дальнем Востоке, в Забайкалье и Якутии. Опубликовала три научные монографии, около 40 статей по гидрогеологии и географии области вечной мерзлоты. Действительный член Географического общества Союза ССР. В периодической печати публиковались очерки, рассказы, стихи Н. А. Вельминой. В издательстве «Мысль» вышли научно-художественные книги «Ледяной сфинкс» и «Пленница вечного холода». Живет в Москве.
Под ногами хрустит галька. Уже не меньше восьми километров отошла я от Чертовой бухты. Иду вдоль берега по самой кромке ледяного припая. Припай заметен снегом и угадывается только по бурой растушевке темного песка. Крутой, обрывистый берег с глыбами черных траппов местами снижается, и тогда далеко бывает видно рваное одеяло тундры, покрытое обледенелой травой с торчащими обломками скал.
Полярный день тускнеет на глазах, как будто кто-то непрерывно отсасывает свет. За мысом, где траппы над бухтой высятся блоками, как остатки гигантских фундаментов, у самой воды неожиданно возникает заброшенная избушка рыбаков. Дверь давно сорвана ураганами. На плоской земляной крыше ветер зачесывает жесткие желтые волосы высохшей травы. Тяжелые осенние штормы намыли у входа и у стены гряды галечника, смешанного с серым морским песком и добела отмытой щепой. Отсюда четыре километра.
Вокруг уже все серо и смутно. Берег ощетинился плавником — деревья, белые и гладкие, как кости, громоздятся навалами. По тундре путь короче, но труднее — едва подмерзшая сверху земля не держит, и ноги проваливаются в жидкую земляную кашу, под которой на сотни метров в глубину уходит мерзлота. Я спотыкаюсь, но все же как хорошо в сухих сапогах! Три месяца мучиться в непросыхающих горных ботинках и только теперь решиться взять со склада эти большие резиновые сапоги. На семь номеров больше, но сухо.
Мое место здесь. Человек должен быть там, где ему хорошо. Каждый день и час почти круглосуточного бодрствования давали ощущение устойчивой, навсегда данной радости. Я — как кладоискатель у цели.
Все они, мои однокурсники, остались там, в городе, бедные, обкрадывающие себя люди. Не видят этих завороженных островов и замирающей в снегах, сжатой черными скалами тундры. Сидят в комнатах, ходят по асфальту, боятся дождей и мокрого снега. а беспокоилась: а вдруг они обойдут меня, и поэтому оформлялась потихоньку. А они и не стремились сюда, а узнав, посмеялись надо мной всласть. Я поддерживала их с восторгом, будто действительно попала впросак.
Здесь удивительный мир — известное и неизвестное рядом. Человеку нужна тайна. Здесь всегда — многостороннее узнавание и напряженное увлечение. И это очень важно: я не гость, я хозяйка здесь. Вот я шагаю сейчас где-то на краю земли, почти ночью. Ничего не может быть лучше.
Я исходила километры этой тундры, облазила эти обрывистые, изъеденные морем берега и знаю здесь все — и плоские ложа мелких речушек, уже опустошенных начинающейся зимой, и мерзлую землю, такую необычную, когда ее откалываешь, всю пронизанную льдом, которому тысячи лет. И даже морское дно я знаю: еще на днях мы доставали со дна моря образцы и пеленали жидким парафином этих нежных земляных младенцев.
Уже с неделю как в воде появилась шуга, и прогребать ее веслами становилось все труднее. Начались штормы. Океан круто, с усилием проворачивал неподатливые буро-зеленые холмы снежной каши. Два дня назад пришлось отбуксировать к берегу плот с буровой вышкой.
Пролив стал за одну ночь. Рождение прекрасного застигло нас утром внезапно. Мы присутствовали при святая святых, при откровении природы. Океан поднял из своих недр несметные сокровища. Нестерпимо сверкающая гладь, как живая, лежала в гигантских пригоршнях базальтовых скал. Снега поверх льда не было, только сонмища кристаллов — алмазное море, над которым как подвешенные горели и переливались дикие огни невиданной силы — желтые, черные, зеленые, лиловые, красные... Кристаллы — ядра вспышек — меркли и зажигались в точках пустоты, испуская мгновенные разящие иглы разноцветного света. Длинные, короткие, то острые, то мохнатые от спектра. Мгновенно вычерчивались таинственные летучие письмена. Высшая грамота природы. Может быть, этим, никем не изученным кодом Земля излагала свою историю? Многоцветная бездна полыхала до горизонта, который растворял ее, сливая с высоким и бледным небом.
Я бормотала что-то вслух о нашей избранности видеть все это, и Никевич засмеялся и сказал, что я фанатик. Но даже он, Никевич — Николай Лаврентьевич, мой товарищ по изысканиям, или, как он говорит, по великому ковырянию полярной земли, неравнодушный к окружающему, только когда оно ему мешает, был потрясен.
— Черт возьми, — сказал он неопределенно и не ушел, а долго стоял рядом...
К полудню все затянулось прозрачной пеленой. Притупилось горячее мерцание огней, тихо погружавшихся в глубину.
Если Никевича взять таким, каким его создала природа, он почти прекрати. И мне жаль, что приходится принимать его с теми изменениями, которые он сам внес в действия великого творца. Никевич худощав и высок ростом, но ходит ссутулившись, наклонив голову на одно плечо, и почти никогда не глядит в глаза. Землю он меряет мелкими шажками. Огромный размах бедер и длинные стройные ноги совсем поэтому не используются — они будто перевязаны в коленях. А мужчина должен ходить широко и смело, в полный шаг, и руки раскрывать в полный размах. На мир смотреть открыто, не пряча глаз. А глаза у него неплохие — серые длинные и с густыми ресницами.
— Зовите меня Колей, — сказал он мне при первой встрече в Москве в полутемном подвальном складе, отвернувшись и разглядывая приготовленные к отправке ящики.
Я засмеялась.
— Коля — это вроде Маня, Оля, Катя. Это — она.
— Ну тогда — Николай.
— А Николай очень сухо. Николай Лаврентьевич — очень торжествено. Можно сокращенно — Никевич. Никевич. Хорошо?
Он облизал губы, мельком взглянул на меня, но спорить не стал? что я оценила. Никевич отличный товарищ. Нам легко работать вместе, а здесь это особенно важно. Мы не скрывали друг от друга своего незнания, когда оно было. Все же я только что с институтской скамьи, а он лишь немного опытнее. Мы советовались, иногда мучительно долго искали нужное решение. В Никевиче было ценное качество доискиваться до предельно возможной ясности в любом творимом им деле. Мы много сделали здесь за несколько месяцев. Правда, почти без сна, благо солнце летом не заходило.
Программа летних работ была близка к концу, когда на флагманском корабле прибыл главшеф Кулагин. Низенький, в меховых летных штанах, он как шарик катался по нашим тундровым владениям, и за ним, побросав все дела, задыхаясь, тащились начальники — порта, базы, складов, полярной станции — и весь синклит с ледокола. Ему все хотелось видеть и знать, и это очень мешало работе. Мы, когда могли, прятались. Каждый вечер нас с Никевичем ждал у берега катер — совещание на ледоколе. К одиннадцати часам ночи мы возвращались на берег к своим подсчетам или в лабораторию, где нас требовательно ждали взятые днем образцы. Или уходили ночью, конечно порознь — дела всегда было слишком много, к дальним участкам наблюдений, ориентируясь в темноте по выступам скал и пятнам снега на сиверах. Ночи уже были густыми и плотными.
Кулагин дал дополнительное задание — обследовать дно бухты под причал в виде буквы «П» вместо намеченного «Г-образного». И самое главное — отодвинул зимовку, распорядился, чтобы мы сами везли результаты изысканий в Москву и участвовали в проекте.
— Дорогушка, — ласково хлопал он по моему стеганому ватному плечу. — Ты мне все исследуй обстоятельно, большое это дело. Я за вами обоими специальный пароход пришлю. Что головой качаешь, говорю пришлю, значит, пришлю. Сойдет с маршрута и заберет, не сомневайся, дело очень важное. Зима настанет — ледокол пришлю. Денег дополнительно отпущу, только делай, и поскорее, зима — она вон уже где.
И он хлопал ладонью по своей пыжиковой шапке.
Относительно специального парохода мы с Никевичем посмеялись, не верили, пока не получили официальное уведомление по радио: нас заберут в самую последнюю очередь — чтобы успели. Теперь дополнительная работа тоже почти закончена. Дней на семь доделок, еще составить программы зимних работ, сметы. Заключить договор со строителями, передать им лабораторию. Пароход ждали недели через две.
И вдруг начались морозы, а вчера стала бухта. Заберут ли нас? Самолеты здесь пока случайные. Летом они садятся на воду, а зимой нужно расчищать аэродром. Длинная история.
С рабочими бывало нелегко, особенно вначале. Двадцать человек — буровики, шурфовщики. Их временно перевели со стройки. Люди испорчены сдельщиной. Плати за каждый шаг. И просто за то, что они существуют в этих потусветных, как они говорят, условиях. Деньги — нитка, стягивающая звенья с трудом переносимых ими обязательств: средней неторопливой исполнительности, гарантированной на ближайший час скупо отмеренной вежливости под контролем возможных взысканий. Ущемить их в деньгах — значит развязать нитку — все рассыплется. Но наша работа не для норм. Час здесь, два там. Участки разбросаны, денег на оплату переходов нет, смета жесткая. Нужны энтузиасты, а не сдельщики. Я знала: бывает хуже. Есть трагичная категория людей — духовных сдельщиков, и нередко встречаешь их среди интеллигенции. А тут «вербованные». Меня еще в Москве пугали: искать среди них крепких душой людей — играть в лото. Самый молодой — Михайлов — при оформлении нарядов наиболее покладист, а в работе самый вздорный. Евстигнеев сделает что и когда хочешь — только плати. Вначале все перемигивались: девчонка, постращать, что не будем работать, глядишь, выпишет чего лишнего. Потом сами смеялись — пустой номер.
И все же они ребята неплохие. Мне с ними удалось сработаться. На перекурах перебрасываются каждый о своем, и я знаю, кто у кого дома. Их еще не пробрал настоящий трудовой азарт, наверное, нужно что-нибудь необычное. Повседневность их глушит. И еще: друг при друге они стыдятся проявить пренебрежение к деньгам — за ними ведь ехали! Они мужественны и не трусливы. Я помню, как-то случилось — тонули мы в лодках в большую волну. Держались молодцами и работали как бешеные, а выбравшись на берег, шумно радовались и забыли о нарядах.
В полной темноте, не заходя в свою хижину, я подошла к бревенчатой столовой полярной станции. Устала все же. Горячие щи со свининой, пышный белый хлеб — такой комфорт после ветра и двадцати пяти километров тундры.
И вдруг — напрочь откинута дверь. С ветром и снегом, из темноты, в распахнутом полушубке — Сёма, помощник радиста. Что там? Задыхаясь, он молча протягивает мне бланк: на рейде, в пяти милях, стоит ледокол, пришел за нами, будет ждать три часа, до восьми вечера. Больше Ждать не может, если не будем готовы — уйдет.
Всего три часа! Еще бы! Его стоянка обходится что-то около пяти тысяч в сутки. Стало тихо. Люди замерли за едой, все как в заколдованном царстве, в раздаточном окне по брови — застывшее лицо поварихи - теплая комната, запах хлеба. И единственный живой — Сёма в своем полушубке, отороченном серым барашком, еще не отдышавшийся.
В черных окнах, судя по отсветам и отражениям, с тихим позвякиванием бьется начинающаяся метель. Через три часа — на борту ледокола? Нереально. Перед нами — невозможное, и его не одолеть. Только в сказках за одну ночь воздвигаются дворцы, да и то если помогает добрый волшебник. Слишком много дела — договор, сметы, передача всех работ строителям, свертывание лаборатории. О личных сборах и говорить не приходится — смять весь наш обжитой уют, втиснуть в мешки документы записи, книги... Я не двигалась.
Можно отказаться сразу. Сообщить капитану — не готовы, не ожидали, не можем. Потом выбираться собаками тысячи километров. Романтично, но неприемлемо. Или собрать только личные вещи — и на ледокол? Но кто простит нам, да и мы себе не простим, срыва проектных работ в Москве, а значит, и строительства будущего года. Для этого нас и ждут там. Мы — в ответе. Оправдываться смешно. Арктика не Подмосковье, где по расписанию ходят дачные поезда.
Три часа. Собственно, почему вокруг так тихо? Я сижу и думаю, а что делает Никевич? Слава богу! Я же не одна. Я повернулась к Никевичу.
Никевич на меня не смотрел, он разглядывал угол стола и вдруг протянул странным голосом:
— С че-е-е-го мы на-чне-ем?..
Оказывается, он сидит рядом. Сидит неподвижно, часто облизывает губы, шевелит ими, прячет глаза и все время вертит в руках какую-то веревочку. На мое удивление невразумительно забормотал:
— Да-а, я по-они-маю-у... Это очень сложно-о все-о... На-аверно-о, ни-и-че-его не полу-у-чится-а...
Я дала ему выговориться. Этого только не хватало! Обычно это женщины в старых романах в самые неподходящие моменты — когда бандиты отнимают их фамильные драгоценности или убивают возлюбленных — падали в обморок или впадали в транс вместо того, чтобы действовать.
Ну, хорошо. Надо принять все, как есть. Значит, я одна. И решаю и отвечаю за все. Надо действовать, сделать максимум возможного и непременно ехать! Только все делать очень быстро. Может быть, удастся задержать ледокол. Да разве капитан сможет нас понять! Какой-нибудь старый, обросший, дубовый черт. Да он, наверное, и не в силах, не имеет права. Слишком дорого, есть предел возможного.
...До ледокола пять миль, нет — девять: напрямик через бухту и пролив по полуторадневному льду не пройти. Надо в обход, через острова, там глубины меньше, лед надежнее, нет течения из пролива. Я не могу рисковать жизнями людей. Достать собак у местного охотника Варламова, порт собак не имеет. Шесть нарт, не меньше. Платить самим, бухгалтерия такие расходы не оплатит, обычно говорят: обходитесь имеющимися средствами. Две нарты к нашей хижине за вещами, две — к лаборатории, три — на переброску остающегося на зиму оборудования к брандвахте. Там — строители, бухгалтерия, капитан порта. Никевича посадить за смету, работа конкретная, справится, проще ничего нет.
— С че-его мы на-а-чнем?..
...Свернуть «дом», все затолкать в мешки. Мешки на нарты. Дать указание лаборантке, ее сейчас же вызвать из дома. Обязательно последний раз проверить, как она обращается с потенциометрами и термопарами, иначе все будет бессмысленно. Запаковать образцы. Потом все шесть нарт отправить к ледоколу с рабочими. Пусть как можно медленнее грузятся. Не выбросит же их капитал на лед? Скажут — мы на подходе, вот-вот придем. Так можно выиграть час, может, два. Я буду составлять программу работ и договор.
Собак и груз поручить Ефремову — бригадиру буровиков, он самый смышленый и находчивый, хотя тоже любит ныть и торговаться с нарядами. Но в нужде и спешке он быстрее всех перестраивается на дело и загорается. У брандвахты выставить дозорного, следить за огнями ледокола на рейде, чтобы мы знали, когда капитан соберется уходить. По радио запросить отсрочку у капитана. Рабочих разделить на три группы. Ну, все. Как говорили студентами — «рванем!».
Ушло двадцать золотых минут. Никевич продолжает крутить веревочку. Настежь открыты двери. Холодный воздух затопил пол столовой. В дверях молча, кучкой, стоят наши рабочие. Узнали, прибежали. Перед ними десять шагов пустоты — расступились, как при несчастном случае.
Я пошла к выходу. Посмотрела на рабочих... и горячо и радостно вздрогнула. Поняли! В лицах напряжение и готовность. Все — как на старте. Взгляды — секунды. Поняли всё — и мое молчание и Никевича. Не знают только размера тяжести, которую надо поднять. И Ефремов молодец, я так и думала. Глаза, как у гончей на цепи — только спусти. Но молчит, ждет. Спасибо. Я подошла к ним.
— Товарищи... Товарищи... Нужно все делать очень быстро, очень быстро и четко. Все, что скажу, по команде, без разговоров, без споров, почти без слов. Со взгляда. Понимаете? Времени нет совсем. Сделать надо много. Я на вас надеюсь...
Я быстро перечислила им все. И — спустила цепочку. Их и свою. Ответ от капитана пришел тут же — ждать больше трех часов не может. Никто другой нас не заберет — все ледоколы ушли на проводку судов, застрявших во льдах. Этот — последний.
Если посмотреть откуда-нибудь сверху на этот маленький кусочек суши, где мы сейчас мечемся в такой-то год, в такой-то час, можно увидеть старенькую брандвахту со светящимися искорками окон, прикорнувшую у самого берега бухты, заметенную снегом землю, домики, мачты радиостанции, обрывистый берег. Где-то промелькнул человек, пробежали двое, промчались собачьи нарты, другие, третьи. В одну сторону, в другую.
Время, время... Вот уже свернута лаборатория. Ушли к ледоколу собаки с имуществом. По радио я тут же сообщила на ледокол: «Вышли!» Я составляю программу. Никевич довольно спокойно гонит смету.
Напряжение — не то слово. Сжимает пресс предельной, последней необходимости. Время давно истекло. Сигнальщик молчит, значит, ледокол еще стоит.
Сейчас, здесь, на этой неприметной брандвахте, идет необычное, молчаливое состязание. Только без зрителей и репортеров. И без чемпионов.
Неожиданно ворвался Ефремов: он вернулся с нартами от ледокола со всем нашим имуществом, капитан сгрузил все обратно, не принял без нас. Ему надо уходить, сказал он. И рабочим оставаться на льду не разрешил. Вещи уже перевезены обратно в хижину. Собак забрал хозяин, кричал, что их загнали.
Вид у Ефремова встрепанный, лицо лиловое. Собакам, правда, досталось, но их не гнали. Местами людям пришлось садиться на нарты, пешком не пройти, выступает вода, подламывается лед. Несколько раз разгружались и перетаскивали вещи.
Ну, что ж, значит, вся работа насмарку. И гонка напрасна. Одиннадцать часов ночи. Влетел дозорный Фролов:
— Ушел! Ушел ледокол... Слышите? — Он смотрел загнанно. Я выскочила на палубу брандвахты. Из темноты донеслись глубокие, рвущиеся гудки. Нет! Не мог капитан уйти, не известив нас. Ночь. Метет. Колючий, холодный ветер. Вязкая тьма. Над берегом фонари — как окуляры микроскопов. Лихорадочно крутятся в них снежные бациллы. Где-то на горизонте светятся, еле проступают бледные созвездия — слева Малый остров, справа — Большой со складами и главной рацией. До него восемь миль. Там где-то ледокол. Вот он — средняя россыпь огней, более четкая и плотная... движется. Дальше — океан, равнодушно нагнетающий густые волны под тонкую корку льда. Ночь отмеряется дыханием людей.
На брандвахту ввалились рабочие, ходившие с Ефремовым. Устало рухнули на палубу.
— Остановился, остановился! — исступленно завопил Фролов. Он то возбужденно взбирается на скользкие, обмерзшие валуны, то спрыгивает к самому льду и почти падает. Вот он кричит опять, что ледокол теперь между Большим и Малым. Все смотрели, превозмогая жгучий ветер. Ледокол действительно передвинулся, но к нам он не стал ближе.
Эх, не надо было Ефремову уходить от ледокола! Нужно было тянуть время, медлить с погрузкой, но ни в коем случае не уходить. Воспаленное от ветряного мороза, все в здоровых морщинах лицо Ефремова мгновенно выутюжилось, и горячие серые глаза обидчиво засверкали в свете фонаря. Он заломил на затылок свою забитую снегом ушанку и закричал по привычке, как с буровой вышки, не переводя духа;
— Ну сколько можно тянуть все выгрузили на лед лежало лежало не пускают говорят где ваши говорим идут потом давай грузи мы начали не торопясь как вы сказали пришел вахтенный орет какого черта мажешь кашу за енто время я цельный трюм барахла накидаю говорю у нас приборы надо тихо ваших говорит нет все обратно выброшу к чертовой матери говорю не смеешь привел помощника капитана говорит сгружай мы ждать не можем ну мы выгрузились и он вон еще стоит должно разворачивается.
Его крик закончился тихим бормотанием. Он скинул на палубу полушубок и в изнеможении опустился на него. Все молчали. Лица у рабочих были измученные.
— Спасибо, товарищи, — сказала я. — Вы действительно сделали все, что могли. Спасибо.
— Спасибо-то что, — кто-то огорченно сказал из темноты. — Кабы делу помогли, то было бы нам спасибо.
А может, ледокол еще не уйдет? Собак отдали зря. На руках вещи не перетащишь. Я сказала это вслух. Рабочие зашевелились, подняли головы, заговорили все сразу. И снова их привычно перекричал Ефремов.
— Надо, на руках все перетащим, будем ходить туда-сюда всю ночь. Да чего так — и собак нашли бы. Вот только ждать он не будет. Корабль бы задержать.
Что делать? Ничего, только работать не останавливаясь, не раздумывая, пока уже не будет надежды. Я вернулась к своим делам.
И опять шло время. И снова прибежал с криком Фролов.
— Уходит! Э-эй! Уходит!.. Теперь, должно, совсем... Набросив ватник и прихлопнув на голове шапку, я прыгнула на палубу. Запыхавшись, сзади бежал Фролов, наступая мне на сапоги и хрипел в ухо:
— Идет... Нет... Идет... Опять остановился...
И вдруг все закричали разом: «Поше-еч! Поше-е-ел...» Рабочие, сидевшие по углам палубы, повскакивали. Огни ледокола оторвались от островных и четко двигались влево — к выходу из пролива. Вот они прошли Большой остров, на несколько мгновений пропали на фоне его ровного полыханья, вот остров остался справа. Уходит. Эта громадина там, во льдах, работала умно и целесообразно, но не на нас. Против нас. А мы стоим и смотрим, как она уходит. Теперь нечего торопиться. Напрасно старались люди. Их дружеские плечи не нужны, готовые руки бесполезны. Горькое бессилие, острая досада и самое тяжелое — сознание, что никакими силами я ничего уже не могу сделать. И — слабость. Прошлую ночь мы почти не спали — обрабатывали образцы грунтов, поднятые водолазами.
А ледокол внезапно опять остановился. Все посмотрели друг на друга и вздохнули. Оказывается, никто не переводил дыхания. Я вздрогнула: последний шанс! Двенадцать часов ночи. Теперь он будет прав, капитан, если уйдет. Но и мы правы. Пять миль. Не может быть, что ничего нельзя сделать, пока он стоит. Не допущу, чтобы он ушел. Проверка сметы, перепечатка ее и договоров. Это можно и без меня. Я пойду и задержу ледокол. Пойду напрямик. Через пролив.
Я застегнула поплотнее ватник и поправила шарф. — Передайте на рацию: «вышли», — сказала я Ефремову. — Сейчас же передайте. Только — не «вышла», а «вышли». Понятно? Я задержу ледокол. Скажите от моего имени начальнику порта, пусть договорится с Варламовым о нартах. Свежих собак. Все нарты с вещами сюда, к брандвахте. Ожидайте Никевича здесь. Ему скажите — скорее. Я иду напрямик. До свидания.
Все молчали. Я махнула им рукой, как-то сзади, за спиной, вроде отмахнулась, получилось не очень складно. Не оглянувшись, шагнула на лед и пошла.
Меня приняла на руки метель. На льду ветер был упруже и подъемнее. Сначала вокруг были отсветы береговых фонарей. Потом они как-то сразу пропали. Тьма вошла в меня плотной, всепроникающей материей — в уши, глаза, дыхание. Она пронизала, растворила, заместила меня. Острый снег сек глаза, но я старалась держать их открытыми. Ногам было подозрительно легко. Ощущение нереальности — главное.
Куда-то пропали все огни, хорошо видные сверху, с берега. Слились в далекое и слабое световое пятно. Ничего, поближе можно будет в них разобраться. Сейчас надо как можно быстрее идти на эту далекую туманность, на еле угадывающееся зарево.
Казалось, я шла очень долго. Появилась та неясно ощутимая взаимосвязь моего внутреннего «я» с окружающим, которая всегда сопутствует соприкосновению человека с необычным.
И вдруг... Живой свет, как дружеский толчок, ударил мне в спину. От неожиданности споткнулась. Свет прожектора сладостно обволок со спины. Обернулась — луч лежал как светлая труба, полная белого клубящегося дыма, и где-то дальним своим концом опиралась на берег. Я радостно раскинула руки, широко вобрала острый холод метели. Нереальность покинула меня. Свет налился силой и ощутимо поддерживал. Я шла теперь в прозрачном земном колодце, до стенки которого можно было дотянуться рукой. И эта стенка, как живая, с каждым моим шагом отступала и отступала вперед, отодвигая податливый тупик. Под ногами черным стеклом светился лед. По льду справа налево стремительно неслась поземка.
Значит, кто-то там, на берегу, подумал обо мне, сказал кому-то. Кто-то кого-то послал на мыс, где стоит прожектор, и кто-то включил этот прожектор. Спасибо им всем.
Но луч почти тут же стал слабеть. Слишком поздно возник он — ему уже не пробить эту даль. Неужели он покинет меня? Свет тускнел все больше и больше. Тьма коснулась моих шагавших ног, скользнула сзади по голове и сомкнулась. Оглянувшись, я увидела — луч был слабой ушедшей кометой в потерянной вселенной. Все кончилось. По сравнению с далекими огнями в море берег казался еще близким.
Вдруг с востока пришел мощный поток тяжелого ледяного ветра — я поняла, что вышла из бухты в открытый пролив. Звон поземки стал сильнее, вверху возникло протяжное подвывание на высокой ноте. Начала спотыкаться, путь стал неровным — ледяной пол то круто вздымался буграми вверх и я карабкалась туда, еле превозмогая вибрацию тяжелого вихря, то опускался вниз, изгибался ложбинами и каждый раз я не знала, куда спускаюсь. Все ясно: тонкий слой льда образовался лишь вчера. Он не может сдержать натиск тяжелых водных масс, широко идущих в пролив из полярных просторов океана. Но он не хрупок, а упруг, и, поддаваясь усилиям волн, повторяет их ритмичный рисунок. Я чувствую под ногами равномерные и пружинистые толчки. К знакомым уже звукам прибавился тонкий скрип, какой-то писк, то короткий, то продолжительный.
Ничего, ничего. Я знаю: это скрипит лед. Если я слышу все это, значит, лед держит меня. Каждый шаг рождал теперь раскаты треска, и они перескакивали от одной ноги к другой. Трескучие нити соединялись, разбегались, и отголоски их пропадали в стороне. Я стала почти осязать бездну, лежащую так близко под моими ногами. Нас разделял только вот этот треск и писк — как будто идешь и давишь какую-то жидкую мелочь и невольно поджимаешь пальцы, а она шныряет под ногами и разбегается. Надо идти осторожно, чтобы не раздавить ее совсем. Треск бежит впереди, как вестовой. Иногда переходит в зловещее пение, и в нем, перебивая такт, как синкопы в ровной мелодии, появляются разящие звуки коротких обрушений. Ледяной воздух толчками бьет в грудь и забирает силы.
Я ясно сознавала, что происходит и что может случиться. Каждая частица моего тела была предельно напряжена, каждый мускул — в работе. Я была готова ко всему. В случае чего надо мгновенно и пошире раскинуть руки и стараться вылезти из воды. «Ты только не робэй!» — говорил мне в детстве рыжий мальчишка в саду нашего дома в Скорняжном переулке, когда мы прыгали с крыши старой беседки. «Не робэй!»
Я шла. Через мои ощущения проникали мгновенно вспыхивающие свежие и забытые образы, нераскрытые мысли, чьи-то слова, неясные, но острые желания, сразу сражаемые другими образами и желаниями, не менее сильными, но так же мало осознанными. Главное — спокойствие. Помощи ждать неоткуда, именно поэтому главное — спокойствие.
В нем — спасение.
Чувства обострились до боли. Я шла с тревожной настороженностью. Так идут звери в лесу. Так шел древний человек сквозь джунгли, опасаясь всего и готовый ко всему.
И вдруг я увидела, что уклоняюсь слишком вправо и иду теперь на дальний мыс Большого острова. Все эти писки и трески отвлекли внимание. Такая досада. Расположение огней отсюда выглядело совсем иным, чем в начале пути. Не хватало еще заблудиться и затеряться в этой метельной пустыне. Хорош изыскатель!
Колючее беспокойство то появлялось, то гасло. Надо разобраться. Без паники. Если спутать огни — они все от меня сейчас далеко, то можно действительно заблудиться, выйти к мысу, вернее, идти к нему всю ночь и не дойти никогда, он слишком далеко. Тогда конец.
Сейчас, сейчас, надо сориентироваться. Несколько минут, и все будет ясно. Предметы переместились, когда я отошла от берега и особенно когда начала пересекать пролив. От меня скрылся освещенный с юга ближний северо-восточный мыс Большого острова и появился вот этот, дальний, запад-северо-западный, невидимый раньше с берега. Возникла новая группа огней. Возможно, я уклонилась вправо, как это бывает с путниками ночью. Но я стреляю с левой руки. И выжимаю на силомере сильнее левой. Это существенно. Однако ледокол тоже мог передвинуться. Вот огни Малого, вот Южного мыса, вот это новые огни. А вот эта маленькая группка сверкающих точек в середине потому и не выделяется, что это — ледокол. Вот и все. Ясно. Поворачиваю сюда.
Через тягость непройденных миль мне вновь сияло теперь потерянное созвездие. Разобралась, слава богу. Я шла уже не обращая внимания на треск под ногами. Устав от однообразия опасности, уже не ощущала поступательных усилий собственной воли, они перестали давить. Все сменилось новым состоянием уравновешенного и напряженного внимания ко всему. Метель утихла.
Только здесь, далеко от берега, от корабля и островов, я ощутила в полной мере пространство — оно казалось беспредельным. Теперь огни берега были тоже очень далеки. Все сейчас было далеко, все жилое и живое. Самым живым был океан под ногами.
И вот наконец среди всех огней ярче всего стали светить те, к которым я шла. Ледокол был все ближе. Вот он виден уже весь, огни его начинают слепить. А потом он как-то сразу оказался поперек моего пути, метрах в двадцати, белый, прекрасный, со всеми своими палубными надстройками, шлюпками, острым, стремительным форштевнем. Самый яркий огонь был с бака. В быстрые секунды прошло через меня ощущение романтики морских скитаний.
Я сделала еще несколько шагов, остановилась и закрыла глаза. Меня будто вытащили после кораблекрушения. Свет лился щедро, широким потоком, и я с наслаждением стояла и купалась в нем. Свет, свет, как можно больше света и побольше тепла. Пока меня не видят, можно постоять. Я имею на это право. Открыть и закрыть глаза. Хорошо. Только что-то мешает. Что? Наконец поняла — крики, громкие, непрерывные, резкие и чем-то противные. Ах, ругань... Еще не хватало.
И вдруг меня будто хлестнули прутом. Я вздрогнула, раскрыла глаза от негодования и оскорбления. Ужасающая ругань гремела из рупора с бака и адресовалась мне. Почему? Здесь? В этой святой тишине, ночью, почти на краю земли?
— Трах-тах, та-тах-тарарах!
Я зажмурилась, полная гнева, и сделала вперед несколько шагов. Скорее достичь ледокола. Добраться к капитану. Возмутительно что за команда.
Эффект моего движения был самый ошеломляющий. Из железного горла, как из пушки, грянуло такое, что, мгновенно задохнувшись, я остановилась, не в силах перевести дыхание.
— Тах-тах-та-тах, черт вас дери, не двигайтесь, вам говорят, стойте на месте. Тарах-тара-тах! Вы понимаете русский язык или нет? Tax-тара-тах!
Я почти плакала: попала в положение, шагу нельзя ступить.
...Понимаете или нет?.. Слышите меня или нет?.. Здесь только что прошел ледокол... Вы идете по битому льду... Тах-тара-тах... Стойте и не двигайтесь, сейчас к вам подойдет ледокол...
Что за шутки — подойдет ледокол?! Кто это там, наверху, развлекается? Мне не до этого сейчас. Нашел время скоморошничать. Такая махина подойдет. Как это он ко мне подойдет? Полная возмущения, но уже нерешительно, я опять продвинулась вперед. И все повторилось снова! Еще более унизительная и обжигающая ругань. Я закрыла глаза и осталась стоять. Теперь, если даже вокруг все провалится, не сдвинусь с места. Противно смотреть. Я отвернулась в сторону.
И вдруг массивная, многоэтажная громадина вздрогнула — раз, еще паз, третий, четвертый, потом задрожала вся от кормы до носа со всеми своими шлюпками — мелко, мелко, часто, часто и... двинулась ко мне... боком... Как стояла, так и двинулась. Вот она ближе, ближе...
По палубе бегал какой-то человек. Ровно стучала машина, ледокол подбирался, и все выше нарастала надо мной его громада. Трещал лед, сжимаемый бортом. Что делается! Значит, он действительно идет ко мне. Он нависал уже как белая стена, но я каменно не двигалась. И не двинусь теперь до конца, пусть хоть раздавит. Когда осталось не более полутора метров, я сделала попытку шагнуть к болтающемуся по белому борту веревочному штормтрапу. Но сверху послышался вдруг мягкий, извиняющийся, очень виноватый голос. Тот же голос!
— Одну минуточку! Постойте, прошу вас, еще минуточку, ледокол еще подвинется к вам... Прошу вас...
И он подошел. Вплотную. На вытянутую руку, на полметра. Я полезла вверх по обледенелому штормтрапу, который вертелся и крутился вместе со мной, на высоту не менее третьего этажа. Полезла, с ликованием сжимая обжигающие веревки.
Вот и верх. Много света, белизны, огней. Плафоны, фонари, прожекторы. Кто-то помогает. Я переваливаюсь через фальшборт. Старпом. А-а, это он самый. Негодяй. Он очень возбужден и смущен. Его смуглые руки дрожат. Он стоит без шапки, прижав ее к груди.
— Я прошу вас, простите меня...
Я не стала его слушать и, не глядя, сурово спросила, как пройти к капитану. Он молча показал дорогу и двинулся рядом, не надевая шапки. Потом сказал:
— Капитан в кают-компании... Вы поймите, я вам кричал очень долго,
давно уже, я был в отчаянии... Вы могли погибнуть в любую минуту... Вы шли, как лунатик, как глухая и слепая, глядя вверх на прожектор, не отрывая от него глаз... Понимаете? Больше двухсот метров шли по колотому льду с той стороны, где только что прошел ледокол... По ледяному крошеву... Мы даже не успели бы спасти вас...
Я шла вдоль борта, и он двигался рядом, пропуская меня вперед и в то же время стараясь не отстать. Я уже все понимала, но протест внутри был слишком велик. Свернула в коридор и закрыла за собой дверь. Старпом остался на палубе. Наверное, нужно время, чтобы все это почувствовать. Никуда бы я не провалилась. Вылезла бы.
Новый, удивительный мир, опять как нереальность. Нет, это старый, чудесный мир, он возвращается. Теплый коридор, чистейшая палуба под ногами, на ней можно даже лежать. Я расстегнула ватник. Сняла меховую шапку. И вдруг... за дверью — рояль. Близко знакомое. Игранное. Да, Шопен, фантазия-экспромт до диез минор.
Я прислонилась к стене, размотала шарф, бросила рукавицы на пол. Нет сил входить туда. И говорить тоже. Побуду здесь. Страшная, сладкая слабость тянула меня вниз. Слишком много всего было сегодня. Неужели сегодня? Чертова бухта, дорога домой, гонка на брандвахте, лаборатория, собаки, бесконечный ночной путь через пролив, ледокол... теперь рояль... Тишина. Потом снова звуки. Теперь скрябинский этюд. Любимый.
С палубы отворилась дверь, опять появился старпом. Он не ожидал увидеть меня здесь. Мой отрешенный вид, мокрые, растрепанные волосы, рукавицы на полу. Рояль. Он понял. Он шел к капитану, может быть, думал, что я жалуюсь...
Он молча приложил руки к груди и, слегка наклонив голову, смущенно улыбнулся. Я счастливо закрыла глаза и махнула опущенной рукой. С моих сапог натекли лужи. Я знала: это беспорядок в судовом хозяйстве. Подавшись вперед, я пожала его скрещенные руки. При свете матового плафона почти сквозь слезы увидела, что рука моя красная и распухшая, в солидоле, наверное от цепей у брандвахты, с прилипшей собачьей шерстью. Все равно.
Музыка кончилась. Я постояла еще, потом шагнула в кают-компанию. Комфортабельная гостиная, мягкие диваны, кресла и ковры. Темно-красная полировка стен, инкрустация костью. Да, этот корабль в прошлом — прогулочное судно какого-то норвежского миллионера.
Из-за рояля в глубине встал человек. Я сразу не поняла, что это капитан — молодой, высокий и худощавый. Даже слишком элегантный. Хотя к этой роскошной гостиной он вполне подходит. Герой экзотических фильмов. И конечно, как все герои — с сединой в висках. Что делать, в жизни, оказывается, так тоже бывает — герои молоды и прекрасны. Не всегда это стандарт дешевых романов и фильмов.
Но я вспомнила, что размягчаться мне нельзя. Из неожиданного мира кинопавильона надо срочно выбираться в нелегкую действительность. Передо мной трудная задача. Результат пока неизвестен. Начинать надо немедленно, иначе все погибнет. Активно включаться в этот фильм и играть в нем без сценария. Нужно, чтобы это великолепное судно и его голливудский капитан дождались наших реальных, не выдуманных, усталых собак и забрали все наше набросанное на нарты имущество. Известно, как в фильмах поступают герои — и рыцари и злодеи, а как в жизни?..
Мы с капитаном представились друг другу непосредственно и просто. Сели. Само собой и естественно сразу заговорили о музыке. Он был спокоен, я — как струна. Последний барьер! Я сказала: мой товарищ и провожающие подойдут чуть позже, их путь кругом, где мельче и безопаснее, хотя и дальше — капитан, конечно, понимает. Капитан пропустил это мимо ушей. Он был любезен и внимателен. Он принимал меня так, будто я пришла из соседней гостиной и на мне был вечерний туалет.
Он давно не был на Большой земле, тем более в Москве и Ленинграде. Его интересовало все — программы концертов, новые имена приезжих музыкантов, выставки. Радио — это не то. Я рассказывала без остановки. С напором отчаяния, с ощущением последней, возможно, невозвратимой потери выкладывала все, что помнила. Понимала, что это наивно, несерьезно, но казалось — это единственный путь. Молча кричала: забудьте об отчаливании, забудьте. Я могу, как Шехерезада, без отдыха говорить обо всем, что знаю, что помню, что придумаю. Пока что цель моя достигалась — мы стояли.
Потом капитан куда-то ушел на несколько минут. Куда? Отдавать приказание сниматься с якоря? Или наоборот — отставить приготовление к отплытию? Он вернулся и ничего не сказал. Я встретила его посильно равнодушным взглядом. Теперь был театр, новые постановки, эксперименты балета. В запасе была литература, путешествия, живопись. Лавина тем. Самое главное, как я полагала, ни минуты перерыва.
Внешне все выглядело довольно естественно — два человека, оторвавшиеся на какой-то срок от цивилизации, с удовольствием говорят об искусстве.
Мы оба все время явно прислушивались. Я — не слышно ли снаружи лая приближающихся упряжек. А к чему прислушивался он? К чему-то во чреве корабля, где что-то скрежетало, с грохотом и позвякиванием куда-то валилось. Прошло, наверное, часа два. Сколько сейчас времени: часа три? Мои испорченные часы лежали в мешке на нартах. Оборачиваться и искать глазами судовые я опасалась.
Наконец! Собачий лай и визг накатились сразу. Мужские голоса и шум на палубе. Я перевела дыхание, вздохнула... и остановилась. Все. Теперь все.
Капитан улыбался. Улыбнулась и я. Наверное, смущенно и устало. Я понимала, что выдала себя. Но мне уже было все равно.
Мы молчали. Капитан улыбался. Он встал, прошелся между креслами, заглянул в темный иллюминатор, в котором ничего не было видно — погрузка шла с другого борта, потом как-то очень лукаво посмотрел на меня и остановился у моего кресла.
— Ну, что же, храбрая маленькая женщина, — медленно сказал он. — Вы своего добились.
В моих глазах было торжество, и он видел это. Так же улыбаясь, капитан сел в кресло и полез в боковой карман.
— Сейчас мы подсчитаем, во что вам это обошлось... Вы же знаете, что стоимость стоянки такого судна очень велика. — Он достал маленькую логарифмическую линейку и не спеша начал передвигать движок.
Вот оно что! Он победил. Обдуманно и коварно перехитрил. Значит, мы с Никевичем должны будем оплатить стоянку этого дорогого корабля, у нас удержат сумасшедшие деньги, все, что мы оба заработали за несколько месяцев тяжелейшей работы! Никто нам этих денег, конечно, не возвратит. А формально он, наверное, прав. Мы не уложились в назначенные часы. Потом я захотела задержать ледокол. И задержала. Как он смеялся надо мной, этот герой из кинофильма, можно себе представить! Ну, что же, я принимаю. Вот только Никевич... Как-то отнесется он? И хорошо, что у меня еще не успела сойти с губ счастливая улыбка облегчения. Она останется. Я добилась своего, он прав. А цена? Что же, кто богат, тот и платит. Может, он хочет, чтобы его просили, умоляли? Нет.
Я с торжеством взглянула на капитана. Только бы не вышло жалкой Улыбки, это хуже всего. Я старалась, чтобы взгляд был даже чуть-чуть насмешлив.
— Ну, не так уж много получилось... — сказал наконец спокойно капитан, вкладывая линейку в карман. — Всего полторы тысячи рублей.
Я улыбалась. Это больше, чем мы заработали здесь вместе с Никевичем. Теперь я была уверена — улыбка осталась неизменной.
— Я очень вам благодарна, капитан.
Я могу так улыбаться целый час, если надо.
Капитан не спускал с меня глаз. Долго не спускал. Я улыбалась. Вдруг какая-то мягкость, почти нежность появилась на его лице.
Скрежет и позвякивание внутри корабля неожиданно прекратились Стало необычайно тихо. Я и не знала, что возможна здесь такая тишина. И ни собак, ни людей не слышно. Капитан подошел ко мне вплотную.
— Ну, вот и мы как раз закончили, — медленно проговорил он хорошим, добрым голосом. — Я воспользовался обстановкой — вы же понимаете, надо было что-то придумать — и приказал сбрасывать шлак. Все равно это надо было где-то делать. Я имею на это право. Вот так. Понимаете? Вот так.
Ледокол задрожал знакомой мелкой дрожью, такой безопасной теперь и успокаивающей. Потом возник ровный шум машины, сопровождаемый нарастающим грохотом раздвигаемого судном льда.
Вдруг я вспомнила. Рабочие! Надо ведь было, ах, как было надо попрощаться с ними, пожать им руки, сказать что-нибудь очень хорошее.
Машина стучала. Лед скрежетал о борта как железо. Мы шли домой.
<< Назад Далее >>
Вернуться: Полярный круг
Будь на связи
О сайте
Тексты книг о технике туризма, походах, снаряжении, маршрутах, водных путях, горах и пр. Путеводители, карты, туристические справочники и т.д. Активный отдых и туризм за городом и в горах. Cтатьи про снаряжение, путешествия, маршруты.