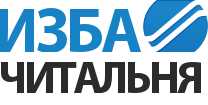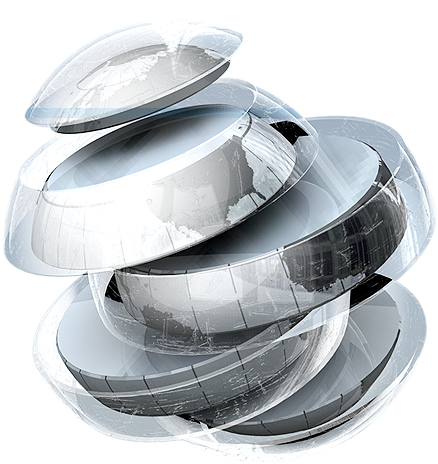КРИК И ШЕПОТ
ОНИ КАК БУДТО СТАРАЮТСЯ МНЕ ПОМОЧЬ, КАК БУДТО САМИ ХОТЯТ, ЧТОБЫ ИХ ПЛОТЬ СМЕШАЛАСЬ С МОЕЙ. |
ДЕВЯТОГО МАРТА НЬЮ-ЙОРКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ береговой охраны США поручило радиостанциям в Виргинии и Пуэрто-Рико передать в эфир стандартное сообщение о яхте, которая не прибыла в назначенный срок в порт назначения, в программе транслируемых ими «Извещений мореплавателям». Эту передачу обычно слушают все торговые и прогулочные суда, крейсирующие в открытом море. При посредстве лондонского отделения Ллойда береговая охрана проследила мой путь до Канарских островов. А так как мое пребывание на Иерро не было официально зарегистрировано, они отказались поверить, что я отплыл с этого острова в конце января. И только после того, как мои родители предъявили им копию отправленного мною с Иерро письма, охрана им поверила. Недоверчивое отношение к, непрофессиональным морякам, которые слишком подвержены эмоциям, сказалось на всех последующих действиях береговой охраны, что привело к бюрократической волоките. В первую очередь береговая охрана предприняла проверку в гаванях Вест-Индии, чтобы выяснить, не прибыл ли «Наполеон Соло» сюда без уведомления.
Оказалось, что никто точно не знает, когда я вышел с Канар, направился ли в Карибское море прямым путем или отклонился к югу, чтобы поймать в свои паруса пассат, а может быть, взял курс мимо островов Зеленого Мыса. Моей семье известно, что мой маршрут не проходил мимо островов Зеленого Мыса, но для охраны эти сведения недостоверны. Безлюдные просторы океана невообразимо обширны. Найти в нем какое-нибудь одинокое судно, даже зная его приближенные координаты,— дело нелегкое: это все равно что отыскать иголку в стоге сена. Даже вычислив мои координаты с точностью до 100 миль, пришлось бы обследовать круг диаметром 200 миль, что составляет свыше 30 тысяч квадратных миль морской поверхности. В переговорах с моими родными береговая охрана умалчивает о том, что если я запаздываю с прибытием более чем на неделю, то это скорее всего означает, что меня уже нет в живых. Такое случается сплошь и рядом. С 1972 по 1977 год в водах США в одних только происшествиях с судами, занятыми коммерческим рыболовством, погибли триста семьдесят четыре моряка. А фонды береговой охраны урезаны, штаты не укомплектованы, снаряжения не хватает. Но даже если они бы и выслали поисковую партию, она, скорее всего, не нашла бы меня. Удаленность моего нынешнего местоположения от берегов не позволяет организовать эффективный поиск. А на вопрос моей семьи, нельзя ли послать на розыск «Наполеона Соло», самолет, береговая охрана заявляет, что об этом не может быть и речи.
А я, между тем, продолжаю у себя на плоту пристально всматриваться в небо, несмотря на мучительное сознание, что самолета я скорее всего не увижу.
На сорок второй день моего плавания, 18 марта, береговая охрана завершает проверку в гаванях Французской и Британской Вест-Индий. Естественно, никто моей яхты там не видал.
Каждую ночь мне удается поспать без перерыва часа полтора, пока «Уточка» не начнет дергать меня за волосы, захватив их своей резиновой щепотью, или пока ноги не онемеют настолько, что возникнет необходимость пошевелиться. Тогда я встаю, оглядываюсь по сторонам и укладываюсь вновь в одной из двух других имеющихся в моем распоряжении поз, обеспечивающих относительный полукомфорт. В бесконечной череде подобных ночей луна сперва уменьшалась, пока совсем не исчезла, потом снова пополнела и округлилась, а сейчас у нее откушена краюшка. Вопреки всем моим опасениям, особенно по поводу того, что акула или иная какая-нибудь тварь непоправимо изорвет мой плот, у меня на борту все в порядке, и я чувствую себя вполне прилично отдохнувшим. Утром 19 марта я пробуждаюсь как обычно с обновленной надеждой на то, что нынешний день подарит мне заветный ключик, который отомкнет мою темницу.
19 марта, день сорок третий
В СЕРДЦЕ МОЕМ НЕ УТИХАЕТ СКОРБЬ ПО большой дораде, напрасно умерщвленной накануне вечером.
Пытаюсь убедить себя, что депрессия моя вызвана голодом, но терзающая меня горечь утраты имеет под собой другую, не только прагматическую почву. Неудача на рыболовном поприще для меня не новость, на них я давно не обращаю внимания. Случившееся было убийственно в эмоциональном отношении. Дорады перестали быть для меня просто пищей. Я привязался к ним сильнее, чем к домашним животным. Я вижу в них существа, равные мне, а кое в чем и превосходящие. Они дают мне телесную и духовную пищу. В нападении и защите они достойные соперники, а потому — достойные друзья. Я благодарен им за пищу телесную и духовную и почтительно отношусь к их силе. Интересно, не связано ли мое глубокое к ним уважение с тем почтением, которое мои индейские предки питали ко всем силам природы? Странно, но порой убийство животных вдохновляет нас на обожествление своих жертв. Я могу, конечно, оправдать убийство дорад необходимостью спасения собственной жизни, но делать это мне становится все труднее и труднее. Последняя смертельная схватка никому не принесла пользы. Я лишил рыбу жизни, а себя — поддержки ее духа. Мне кажется, что я совершил тяжкий грех, что все происшедшее таит в себе очень дурное предзнаменование. Такое расточительство... До чего ж я ненавижу расточительство! Тем не менее я понимаю, что если хочу выстоять до конца, то должен продолжать охотиться на дорад. И сегодня надо быть готовым совершить новое убийство.
На кончике алюминиевого трубчатого цевья приклепана большая пластмассовая обойма. Раньше, когда ружье еще способно было стрелять, сквозь эту обойму пролетала выпускаемая стрела; теперь же она к ней плотно пришнурована. И вот в корпусе этой обоймы я обнаруживаю трещину. Скоро уже это приспособление отслужит свое. Если обойма расколется, то тонкая серебряная стрела быстро расшатается в обвязке и выскочит из ружья. А если я ее потеряю, то ловить рыбу мне будет нечем. Чтобы обезопасить себя перед лицом грозящей катастрофы, закладываю несколько дополнительных витков, притягивающих металлический стержень стрелы к пластмассовой обойме, а саму обойму — к алюминиевому цевью. С виду все кажется таким надежным, что дальше некуда, но я-то знаю, насколько хлипка эта конструкция на самом деле. Любопытно, сколько еще дорад можно будет ею поддеть?
Рыбий кортеж начинает свой утренний парад. Прямо под острием моего копья появляется голова. Точный отвесный удар чисто прошивает дораду насквозь, она начинает кувыркаться, как безумная, и так и рвется у меня из рук. Но я держу цепко. Нет! Не вышло! Пластмассовая обойма на кончике цевья словно взрывается, обвязка разлетается в стороны и спутывается в клубок, а гарпун перекашивается. Пытаясь его ухватить, я быстро наклоняюсь, и в этот момент раздается жуткий звук: будто кто-то резким рывком раздирает гигантскую жесткую «молнию». Это загарпуненная дорада вонзает наконечник стрелы в нижнюю камеру плота. С шипением и бульканьем, напоминающим гнусавое бормотание, оттуда вырывается воздух.
Рыбина вырывается на волю. Каким-то чудом мне удается удержать в руках и ружье, и гарпун. Забрасываю их внутрь и хватаюсь за пробоину. О, Боже! Внизу зияет огромная дырища шириной в четыре дюйма. Я пытаюсь стянуть края страшной пасти, но «Уточка» продолжает погружаться. Через разрыв пробиваются громадные пузыри, потом выскальзывают пузырьки поменьше, просачивающиеся уже не так быстро. И, наконец, нижняя камера безжизненно опадает плоским пустым мешком.
Все кончено, «Резиновая уточка» осела настолько, что теперь ее плавучесть обеспечивается только верхней камерой. Высота надводного борта составляет всего три дюйма. Волны свободно переплескивают через него. Днище плота вспучилось у меня под ногами. Давление воды под днищем так сильно, что нижняя камера вырывается у меня из рук, ее затягивает под плот, и днище вспучивается еще сильнее. Проваливаясь при каждом движении, как в трясину, я стараюсь нашарить свое снаряжение.
Если я не сумею как-то заделать этот разрыв, мне крышка. От сырости тогда не будет спасения, и соленая вода разъест мне кожу до костей. Ноги мои торчат внизу под водой, и рыскающие в окрестностях акулы, конечно, предпочтут попробовать на зуб их, а не балластные карманы. Рыбы из моего почетного эскорта, например, уже колотят и покусывают мои конечности сквозь резину. Я не смогу спать. Ноги мои так глубоко увязли в просевшем днище, что тычущиеся в них дорады становятся совершенно недосягаемы для остроги. Но даже если я изловчусь все же поймать рыбу, мне негде будет ее высушить и очень скоро она превратится в несъедобную дрянь. «Уточка» виляет на ходу сильнее обычного, а значит усилится и трение опреснителя. Что-то непременно надо предпринять, причем как можно быстрее, пока не испортилась погода.
Конические пробки из ремнабора слишком малы для того, чтобы заткнуть такую дыру. Но может быть, мне сгодится кусок пенопласта из маленькой подушки, спасенной в ночь бегства с гибнущего «Соло». К счастью, это пенопласт с закрытыми ячейками, его структуру составляют миллионы крохотных застывших пузырьков, и поэтому он намного лучше того, что состоит из таких же пузырьков, но с прорванными стенками. Благодаря закрытым ячейкам, этот пенопласт не впитывает воду и не пропускает воздух. Не обращая внимания на побои, которыми осыпают меня дорады, я извлекаю свои инструменты и лихорадочно начинаю работать. Вырезаю брусок соответствующего размера, беру несколько коротких шнурков, перегибаюсь через борт и, помогая весом своего тела и экипировочного мешка, подтягиваю нижнюю камеру к себе. Пробоина находится достаточно близко для того, чтобы до нее дотянуться, но разглядеть ее все же трудно. Заталкиваю в дыру пенопластовую пробку, захватываю верхний и нижний края разрыва, накидываю шнур петлей и плотно обматываю ее конец вокруг импровизированной пробки. Первые витки не захватили края этой кошмарной пасти, поэтому я накладываю дополнительные. Теперь я стянул разверстую пасть, и она выпятила губы куриной гузкой. Моя заплата сильно смахивает на рот камбалы со свисающим маленьким пенопластовым язычком. Что ж, пора опробовать результаты своего труда. Визгливо похрюкивает помпа. Камера понемногу надувается, натягивая подо мною пол. По мере того как «Уточка» всплывает, из-под воды все сильнее булькает, а потом над поверхностью появляется выпяченный рот и шипит на меня, точно морская змея. Через пятнадцать минут камера обмякла и тело мое снова проваливается в резиновую трясину.
Заглядываю через борт. Оказывается, воздух просачивается сквозь многочисленные мелкие морщинки, разбегающиеся от перевязанного места разрыва наподобие корней, расходящихся от древесного ствола. Пробую законопатить их набивкой спальника, но сколько ни заталкиваю ее во все дыры, воздух все равно находит себе щелочку. Может быть, помогут мои старые обтрепанные губки? Пять часов я бьюсь над тем, чтобы наглухо запечатать все зазоры вокруг затычки, но всякий раз, как я берусь за помпу, на поверхность выскакивают пузырьки. Принимаюсь затыкать щели, но от этого пузырьки только увеличиваются и их становится все больше. Чтобы поддерживать в камере приемлемое давление, требуется каждые полчаса делать по пятьдесят качаний. А всего для обеспечения жизнеспособности «Резиновой уточки-III» ежесуточно нужны будут три тысячи качаний. Два с лишним часа изматывающих упражнений; думаю, это примерно вдвое выше нынешнего предела моих возможностей. А когда на море разыграется шторм, то усилия придется, наверное, еще удвоить; разумеется, при условии, что моя заплата вообще устоит на месте. Это невозможно.
Отсюда до ближайшей суши еще около 600 миль, в лучшем случае тридцать четыре дня пути. Спущенная нижняя камера действует как плавучий якорь, замедляя дрейф «Уточки». После тяжелой работы под жарким солнцем, наглотавшись соли с ножа и веревок, которые мне приходится все это время держать в зубах, я испытываю чудовищную тяжесть. Все мышцы уже отказывают. Мне ни за что не выстоять еще тридцать четыре дня.
Лежа на спине, чувствую, как в очередной раз спускает камера. Пытаюсь немного отдохнуть и успокоиться. Может быть, между Бразилией и южным побережьем Соединенных Штатов тоже существует рекомендованная судовая трасса, где-нибудь милях в трехстах впереди. Но это все равно очень далеко. Если раньше вокруг был ад, то сейчас меня кинули в самое пекло.
Перебираю в уме различные инструменты и приспособления, которые сейчас бы мне здорово пригодились: иглы, парусную нить и какой-нибудь хороший клеи; огромный клещевой зажим типа того, что применяется для остановки кровотечений; неплохо бы иметь что-то наподобие надувного баллона, который можно было бы вставить внутрь камеры и там надуть — но между мной и этими богатствами 120 лиг пути. А здесь мне приходит в голову лишь одно-единственное решение: заткнуть прорванную дыру пробкой и крепко ее обвязать. Как не хватает мне сейчас дружеского совета и слов ободрения, как оскудела моя изобретательность! Как нужна мне рука помощи, как жаждет милосердия моя измученная душа!
С юга на север проплывает гряда облаков. Я должен опередить непогоду. Вечером на угольно-черном небосклоне загорается бледным огнем лунная долька, похожая на дремлющий глаз, приоткрытый ровно настолько, чтобы бдительно следить за уснувшим морем. Укрепляю у себя на макушке фонарик, соорудив что-то вроде шахтерской каски. Все мое снаряжение привязано у наветренной стороны, чтобы не скатывалось под ноги. Заранее заготовленные куски шнура развешены по сушильным веревкам, откуда их можно легко снять одним движением руки. Склонившись носом над самой водой, я едва могу рассмотреть поврежденный участок. Мне очень не хочется совать руки в темную воду. Постепенно я распутываю и убираю клубок из шнура, напоминающий крысиное гнездо, и вытаскиваю пробку. Луч моего фонарика пронизывает тихую воду, на свет ко мне сплывается стайка рыбешек. Интересно, с какой глубины виден этот маленький маячок? Будет ли он привлекать сюда крупную рыбу? Приступаю к повторной установке пробки. Внезапно световой столб перекрывает огромная серая тень, она проскальзывает в нескольких дюймах от моих пальцев. Я как ошпаренный выдергиваю руки из воды. Акула, футов около десяти. Средняя. Она лениво описывает круг возле плота, на мгновение показывается над поверхностью и затем уходит вглубь. Несколько раз колю ее стрелой — с таким же успехом можно зубочисткой толкать гору. Она только лениво помахивает хвостом, словно вовсе и не почувствовав укола. Некоторое время ее не видно. Поднимаясь выше, лунное око будто просыпается и разгорается все ярче. Я возвращаюсь к прерванной работе. Загоняю пробку глубоко в пробоину, тщательно прижимаю ее шнуром, завожу виток, сильно обтягиваю, завожу следующий. Острые зубы! Руки мои катапультируются из воды. Должно быть, адреналин готов брызнуть изо всех пор моего трясущегося тела. Щелкаю кнопкой фонарика. Вокруг заплаты шустро крутится спинорог. Мои часы! Ну конечно же, все дело в их светящихся стрелках и циферблате. Спинорог, наверное, вообразил, что это какая-то съедобная штука. Отгоняю его прочь и снова опускаю руки в океан.
Из нижней камеры приходится выдавить все остатки воздуха, и только после этого мне удается присобрать вокруг пробки достаточное количество материала, чтобы охватить обвязкой внешние уголки ухмыляющейся пасти. Надежно установленная пробка укоротит внешнюю окружность плота не менее чем на четыре дюйма. Поэтому, когда, щеки надуются, рот будет растягиваться, стремясь принять прежнюю форму. Моя заплата должна будет противостоять давлению два с половиной фунта на квадратный дюйм. Используя в качестве рычага собственное предплечье, а в качестве точки опоры — верхнюю камеру, я обтягиваю витки обвязки настолько туго, что шнур врезается мне в ладони, а мой «ручной» рычаг до мяса стирается о резину.
Но этого еще мало. Заплата травит воздух так быстро, что я не успеваю качать. Я настолько измотан, что мгновенно проваливаюсь в сон и сплю, погрузившись, в зыбкое лоно своего судна.
20 марта, день сорок четвертый
ПРОСЫПАЮСЬ Я НА ЗАРЕ, ГОТОВЫЙ ЕЩЕ РАЗ попытать счастья. Как я и ожидал, едва залатанная камера наполнилась воздухом, края пробоины растянулись и выползли из-под шнура. И тут же из дырки весело побежали пузырьки. Затыкаю эти сквозящие щели кусочками пенопласта и липкими шариками полупереваренной губки, а затем еще раз обвязываю шнуром всю пробку. В этот миг подо мною бесшумно скользнула серая туша с белыми отметинами на кончиках плавников. Гнусный океанский стервятник так и рыщет вокруг, кружит, подкарауливая добычу, выжидает своего часа.
Я заново перевязал свою острогу, с особым тщанием обтянув каждый виток, чтобы нельзя было ни вытащить стрелу из ружья, ни расшатать обвязку. В результате у меня получается великолепное прочное орудие. По возможности стараюсь поддеть им акулу, но она уклоняется в сторону или уходит в глубину, все время огибая мой плот и оставаясь за пределами досягаемости. Иногда я попадаю в нее, но она даже не замечает таких комариных укусов. Я продолжаю работать. Надеваю на пробку хомут из пенопласта и опять накачиваю камеру. С каждой складочки сложенного в беззубую гримасу рта срываются воздушные пузыри, сливаясь в сплошной поток. Каждые полчаса шестьдесят качаний, или мои ноги будут болтаться в воде, как сосиски,— ешь кому не лень! Меня это злит все больше и больше. Но вот зверюга приближается к самому борту. Поджидаю ее с искаженным ненавистью лицом. Приподнявшись как можно выше, обрушиваюсь на нее всем своим весом, целя острогой в горизонтальную линию, проходящую по ее боку и голове. Чувствительность этого места так велика, что акула способна воспринимать колебания воды, вызванные бьющейся раненой рыбой, на расстоянии свыше четверти мили. В мгновение ока со скоростью космического корабля из «Звездных войн», совершающего прыжок в гиперпространство, чудовище исчезает из вида.
Пропускаю поверх заплаты кусок линя, который провожу между петельным ушком, предназначенным для крепления веревочного трапа, и леером. Натянув этот линь, можно приложить к заплате достаточно большое давление извне, благодаря чему утечка воздуха существенно ослабевает. Добавляю туда же еще пару жгутов. В результате этих усилий «Уточке» требуется уже всего сорок качаний каждые два часа, но сердитое шипение разыскивающих лазейку змей не смолкает ни на минуту.
Гнусный океанский стервятник так и рыщет вокруг, кружит, подкарауливая добычу, выжидает своего часа. |
Физический труд сжигает последнюю энергию, еще оставшуюся в ноющих мышцах, но ничего не поделаешь, приходится работать не покладая рук. Надо опять запустить опреснитель и подкрепить свои иссякающие силы. Сушеной рыбы больше совсем не осталось. Когда в перерывах между своими охотничьими вылазками ко мне подваливают дорады, я поджидаю их в полной боевой готовности. Дважды, проверив обвязки на остроге, занимаю боевую позицию. Однако моей энергии едва хватает на охотничью стойку, охота же совсем не ладится. Мои неуклюжие и неточные выпады только баламутят воду и распугивают дорад. Но вот, наконец, одна из них подходит достаточно близко. Громко ухнув, я колю копьем и попадаю рыбе в спину, но насквозь ее не пробиваю. Рыба с невероятной скоростью начинает вращаться во круг кончика стрелы и в какое-то мгновение, столь краткое, что я не успеваю даже перехватить обеими руками свое оружие, исчезает, а моему изумленному взору предстает винтовая нарезка на тупом конце гарпуна. Менее чем за две секунды рыбина начисто отвернула привинченный там наконечник и ушла вместе с ним. Кажется, дорады дождались своего часа, чтобы устроить мне испытание. И вот они уничтожили мое судно, потом лишили меня оружия и теперь издевательски надо мной смеются. Ах, если бы я был морским существом! Рыбам не надо применять интеллект или искусственные орудия. Они просто плавают, размножаются и умирают. Я испытываю благоговейное восхищение перед сложностью и совершенством окружающего меня мира, но слишком утомлен, чтобы оценить его по достоинству. Я ничего не чувствую кроме бессилия и подавленности. От слабости мне трудно шевельнуть рукой, однако надо. Работы предстоит больше, чем когда-либо раньше.
Роюсь в мешке со снаряжением, выискиваю что-нибудь подходящее для нового наконечника. В одном из карманов мне попадается бойскаутский походный набор — нож, вилка и ложка из нержавеющей стали. Все эти годы он валялся у меня без дела, пока я не засунул его на всякий случай в аварийный мешок. Пожалуй, вилка или ножик сгодятся для наконечника. Прочнее всего вилка, ею вполне можно проткнуть спинорога. Но сначала я решил испробовать нож. Привязываю его к стержню стрелы за рукоятку, по возможности туго укладывая витки все того же белого шнура. В ноже есть два отверстия; через заднее я пропускаю один конец шнура и прикрепляю его к обвязке, держащей стрелу, а другой привязываю к рукоятке ружья. Теперь я его не потеряю, даже если он сорвется со стержня. Узкое лезвие, длиной в несколько дюймов, торчит на стреле вместо наконечника. Оно легко пружинит и гнется у меня в руках, и я сильно сомневаюсь, чтобы оно сослужило хорошую службу в охоте на дорад! Лучше я испытаю его для начала на спинорогах, хотя скорее всего слабенький кончик согнется, наткнувшись на их жесткую шкуру. Но спинороги держатся от меня подальше, словно зная, что я снова во всеоружии.
Наверное, настала пора пустить в ход лесу с крючком. Из морских уточек получится неплохая наживка, а их v меня развелось достаточно. Подтягиваю буксирный конец, волокущий за моим плотом сигнальную вешку, соскабливаю с него несколько рачков пожирнее, насаживаю одного на форелевый крючок и выметываю эту рыболовную снасть за корму. Не проходит и часа, как начинается клев. Замечательно! Может быть, я прокормлюсь спинорогами. Но когда я подвожу свою добычу к борту, она внезапно раздувается, как воздушный шар, и угрожающе топорщит множество колючек. Да это же печально известная ядовитая рыба-еж, а ее колючки таят в себе новую опасность для бедной «Резиновой уточки». Стряхиваю ее с крючка и предпринимаю еще одну попытку. Но на крючке опять оказывается все тот же колючий пузырь. Кроме него, никто не позарился на мою приманку. К дьяволу эту затею.
Начали появляться непривычные представители животного мира. Откуда-то из-под плота доносится пронзительный писк и вслед за тем, держась на почтительном от меня расстоянии, выныривают из воды седлистые морские свиньи. Темные пятна, расположенные у них на спине и на боках, по форме напоминают седло со стременами. Поиграв в чехарду, они удаляются, но еще долго над волнами витает призрачный дух этих веселых, улыбающихся созданий. А потом мимо меня прошмыгивает какая-то рыбина, она длиннее и тоньше дорады, и раскраска ее не такая яркая. Она так быстро промелькнула вдалеке, что я не смог ее распознать.
Все чаще мне встречаются странствующие клочья саргассовых водорослей. Можно отметить, что они далеко не так свежи, как те, что попадались в восточных водах. По пути они успели обрасти собственными экосистемами. Их плети усеяны стекловидными бусинками икринок, большей частью мертвых; все вместе похоже на седоватую бороду, покрытую капельками росы. Пока я роюсь в водорослях, выбирая икринки, оттуда выскочила и пустилась наутек парочка крабиков примерно в полдюйма величиной, украшенных нарядными белыми разводами. Один из них продирается сквозь саргассовыe заросли, сваливается в воду и уплывает, точно водяной клоп. Другого я успел схватить и засунуть 1 в рот. Он хрустит на зубах. Какое удовольствие после однообразного рыбного меню ощутить во рту вкус крабового мяса!
«Уточка» дрейфует по полям прозрачных шариков фитопланктона размером от одной восьмой до четверти дюйма в поперечнике. Они встречались и раньше в начале плавания, но по мере нашего продвижения к западу все чаще попадаются густые скопления, их можно видеть со всех сторон. Если бы я догадался захватить с собой пару нейлоновых чулок, то мог бы соорудить сачок для сбора планктона и выставлять его по ночам, когда наверх всплывает более крупный зоопланктон, мерцающий фосфорическим светом. Но у меня нет ничего подходящего, поэтому приходится довольствоваться только скудными крохами, которые я вылавливаю в волнах или собираю с водорослей; прокормиться ими невозможно.
Я лежу на спине и смотрю на небо; кроме неба у меня ничего нет общего с людьми, живущими на суше, только оно и связывает меня с ними. Какая-то белоснежная птица в черной маске с двумя длинными перьями в хвосте, шумно хлопая крыльями, с хриплыми криками носится вокруг моего плота. Не раз я наблюдал, как тропические птицы часами пытались сесть на клотик раскачивающейся мачты. В глубине души я надеюсь, что эта окажется достаточно глупой и приземлится прямо на «Резиновую уточку-III». Но она, ненадолго задержавшись возле меня, торопливо улетает куда-то в северном направлении, продолжая свой дерзкий полет над безбрежной Антлантикой.
Всякое изменение во флоре или фауне океана служит для меня оповещающим знаком. Они указывают на перемены в характере течений и подтверждают мое перемещение на запад. Неужели я нахожусь ближе к континентальному шельфу, чем предполагал раньше? Нет. Все это одни только благостные мечтания. Ясно тебе, олух? Качая помпу, я постанываю в такт движениям, я выбиваюсь из сил, чтобы «Уточка» не испустила дух. Буду бороться до последнего. А потом я в последний раз включу радиомаяк в надежде, что меня услышат пилоты авиалиний западного полушария; только бы батареи не подвели.
Книга Дугала Робертсона содержит несколько полезных карт. На одной из них обозначены маршруты миграций птиц, на другой показан ожидаемый уровень осадков (не слишком высокий для моего региона) и еще на одной — важнейшие судоходные пути. Судовые трассы, а также течения, ветры и некоторые другие данные обозначены и на имеющейся у меня большой карте. Перевожу туда же контуры континентального шельфа с одной из карт Робертсона, хотя она вряд ли может претендовать на высокую точность. На картах нигде не отмечены судоходные пути между Северной и Южной Америкой, но я думаю, что между островами Карибского бассейна наверняка курсирует много судов, а также должно существовать какое-то сообщение между Бразилией и Антильскими островами и другими более северными точками. Рисую для себя схему предполагаемых судовых трасс и возможных путей движения самолетов на авиалиниях, чтобы решить, когда лучше всего запускать маяк. Я постоянно рассчитываю вероятную погрешность своей навигации, учитывая все «за» и «против», и записываю на карте максимальное и минимальное число дней, остающихся до той или иной трассы, до шельфа, до островов. Но и самые оптимистические мои прогнозы выглядят довольно уныло, а разрыв между максимальной и минимальной цифрами увеличивается с каждым днем, что, с одной стороны, невероятно обнадеживает, а с другой — невероятно угнетает. При моей нынешней скорости, которая составляет восемь миль в сутки, до ближайшей трассы остается плыть еще довольно-таки долго.
Вечером мне удается поймать врасплох и загарпунить сонного спинорога — ценою погнутого ножа. Чуть не час я чищу этого толстокожего малютку. У меня ничего не пропадает зря. Вокруг глаз есть тоненькие колечки мускулатуры, несколько мясных волоконец лежит вдоль рыбьего рыльца. Из глазниц можно наковырять немного студенистой жидкости. Я даже срезаю кончик языка и проглатываю его, представив себе, что это хрустящий водяной орех. Лакомство, которое мне досталось, сильно смахивает на белую сыромятную кожу, но на костимых плавниках, расходящихся от тела веером, мне удается наскрести небольшой кусочек красного гамбургера. Несколько косточек я приберегаю на случай, если вдруг понадобится сделать шило.
Ночь приносит мне глубокий сон, иногда нарушаемый судорогами, и еще одна акула зачем-то теребит мою «Уточку» за задницу. Я лениво отмахиваюсь, и она уплывает.
22 марта, день сорок шестой
ДВАДЦАТЬ ВТОРОЕ МАРТА, МОЙ СОРОК ШЕСТОЙ день. Нью-Йоркская береговая охрана отменяет сообщение в эфире об исчезновении «Наполеона Соло». Они уведомляют лондонское отделение Ллойда, власти Канарских островов и свои станции на Майами и в Пуэрто-Рико о том, что «активные поиски приостановлены». Однако мою семью об этом не оповещают, решив подождать до первого апреля.
По-прежнему я веду наблюдения, стараясь отдавать им как можно больше времени. Ежедневно час за часом вглядываюсь в пустынный горизонт, впиваюсь взором в каждую облачную полоску, подозревая в ней инверсионный след реактивного самолета, напрягаю слух, пытаясь уловить отдаленный рокот пропеллеров. Я понимаю, что нахожусь так далеко, что эффективные поиски вряд ли возможны — все сроки моего возвращения давно прошли, так что никто уже и не верит, что я еще жив, Официально я, конечно, числюсь «пропавшим без вести». Тем не менее я упорно продолжаю нести свои вахты.
Вчера утечка воздуха усилилась. Я попытался увеличить внешнее давление на заплату, наложив на нее сверху еще один жгут, но в результате пробка немного сдвинулась и из-под нее сразу же высунулся серебристый змеиный язычок из маленьких пузырьков. Провозившись несколько часов, я кое-как загнал его обратно в клетку, но злобное шипение воздуха так и не прекращается.
В эти дни на плоту часто плещется вода. Днище проваливается при каждом шаге, и ноги, словно обутые в резиновые сапоги, находятся по колено в воде. Я передвигаюсь по плоту следующим образом: сначала рывком выдергиваю одну ногу, задираю ее как можно выше, чтобы освободиться от вздувающегося следом днища затем, сделав шаг, снова проваливаюсь, как в трясину, стараясь удержать равновесие на другой ноге. Если же я вдруг теряю равновесие, то попадаю в цепкие объятия черной бесформенной амебы и тогда вступаю с ней в настоящий бой, чтобы она не задушила меня в своих объятиях. Хуже всего, естественно, в центре плота, поэтому я стараюсь держаться поближе к бортам. Но и там прилипчивая резина сдирает едва поджившую корочку с фурункулов, усеявших спину и ноги. Несколько болячек, вызванных раздражением от соленой воды, угнездилось у меня в паху, еще несколько выскочило на груди. Я заживо гнию.
Стараясь не замечать боли, я занимаюсь рыбной ловлей. Сквозь лихорадочный туман, застилающий взор, я поймал и умудрился поднять на борт двух спинорогов. Два раза мне удалось поразить гарпуном дораду, но оба раза тонкий ножик, выполняющий роль наконечника, не выдерживал и гнулся. Даже при сильном ударе, когда лезвие глубоко вонзается в рыбу, большая дорада с него соскальзывает. Я опасаюсь, что оно в любую минуту может сломаться.
эволюция копья На первом рисунке стрелкой показана упругая тетива, выбрасывавшая гарпун, пока она не сорвалась и не утонула. Второй рисунок: я максимально вытягиваю гарпун вперед, чтобы увеличить радиус действия своего оружия, и плотно привязываю его к цевью ружья. Остаток шнура провожу от гарпуна к предохранительной скобе спускового крючка, застраховав таким образом стрелу от движения из-под обвязки вперед. При этом древко гарпуна проходит сквозь пластмассовую обойму на кончике цевья. В битвах с дорадами стрела и все ружье подвергаются сильным боковым нагрузкам. Из-за этого в пластмассовой обойме вскоре появляется трещина, показанная на рисунке стрелкой. Третий рисунок: я пытаюсь уменьшить боковой люфт, сместив гарпун назад, поближе к рукоятке ружья. Одновременно я усиливаю обойму дополнительными обвязками. Однако в схватке со следующей же дорадой она разрывается, гарпун загибается и переламывается в месте, указанном стрелкой. В результате загарпуненная рыба втыкает острие в стенку нижней камеры. На нижнем рисунке гарпун пришнурован уже непосредственно к цевью ружья. Страховочный линь теперь проходит к предохранительной скобе от самой передней обвязки, чтобы ее нельзя былод стащить с кончика цевья. ИМПРОВИЗИРОВАННЫЙ НАКОНЕЧНИК: В конце концов одна дорада отвинчивает зазубренный наконечник моего гарпуна и скрывается вместе с ним в пучине. Тогда с одной стороны древка я устанавливаю столовый нож из нержавейки, а с другой — лезвие сапожного ножа. В рукоятках обоих ножей имеется по отверстию, через которые шнуром я плотно стягиваю их между собой на гарпуне. Рукоятку столового ножа я чуть отгибаю в сторону, чтобы она работала как зазубрина, и закрепляю еще один страховочный шнур. Теперь даже если ножи и соскользнут с кончика металлического стержня, они останутся соединены с плотом. Лезвия я тоже слегка подгибаю, пока их кончики не соприкасаются, образовав единое V-образное острие. На самом нижнем рисунке показана последовательность наложения обвязки - бензеля,— знать которую очень полезно всем яхтсменам. Слева: завяжите вокруг одного стержня выбленочный узел или удавку. Справа: аккуратно и плотно наложите витки шнура, сильно их обтягивая. Ходовой конец пропускается несколько раз между стержнями, охватывая стяжку поперечными шлагами-витками. Последние шлаги — их три-четыре — очень туго обожмут бензель. Заканчивается работа вязкой еще одного узла с противоположной стороны. Показанный на рисунке узел из двух шлагов, но можно завести и дополнительные. |
Отыскиваю в мешке сапожный нож, которым я полтора месяца тому назад рассек узы, соединявшие «Уточку» с палубой «Соло». Сбиваю с него деревянную рукоятку и затачиваю на брусочке стальное лезвие. Привязав столовый нож с одной стороны древка стрелы, а сапожный — с другой, я соединяю оба острия, так что получается V-образный наконечник. Затем я скрепляю ножи, продев шнур сквозь отверстия в их ручках. Если мне достанет сил, моя острога теперь прошьет дораду, как метеор, оставив на входе зияющий кратер. Для увеличения держащей силы нового наконечника немного отгибаю ручку столового ножа от стержня, чтобы она работала как зазубрина. Эти два лезвия — мои последние металлические предметы, пригодные для оснащения гарпуна. Их потеря может стоить мне жизни. Протянутый от столового ножа к рукоятке подводного Ружья предохранительный шнур — единственная страховка, от которой зависит моя жизнь. На всякий случай привязываю ружье к плоту и кладу его на брызгоотбойную юбку, уложенную поперек моего порога, где оно всегда будет наготове. На острие своего оружия я натягиваю нечто вроде защитных ножен, чтобы обезопасить надувные камеры «Уточки», если океан чего доброго вздумает с ним поупражняться.
Но прежде чем мне удалось опробовать в действии новый наконечник, пробка в нижней камере начинает дрожать и перед носом моего плота один за другим взлетают маленькие гейзеры. Завожу вокруг заплаты еще один новый жгут и крепко-накрепко его закручиваю. А когда я эту операцию заканчиваю, пробоина извергает целый вулкан хорошо откормленных пузырей. Заплату опять сорвало.
Значительно сильнее травит теперь и опреснитель, который опять прохудился. Занятый починкой камеры, я не могу оторваться, чтобы поддуть опреснитель, и он успевает тем временем съежиться. Соленая вода смешалась с драгоценным дистиллятом. Трудно сказать, сколько ее туда попало. Я прихожу к выводу, что собравшаяся в приемнике вода не слишком солона и пригодна для питья. По мере накопления соли в моем организме мне все труднее распознавать ее на вкус. Меня очень пугает, что соленая вода стала мне казаться пресной.
Заплата в нижней камере сдает в сумерках, и я всю ночь напролет лежу без сна, тесно прижавшись к борту «Уточки», чтобы не слишком глубоко проваливаться. Мокрый и продрогший, я чувствую себя так, словно покачиваюсь в накренившейся подвесной койке, в которую налита вода. Сбоку меня толкает что-то большое и шершавое. Опять акула. Хватаю ружье и пытаюсь половчее развернуться для удара. Резиновое днище скрипит и засасывает мои ноги, кожу в нескольких местах больно защемило в складках. Акулу во тьме не рассмотреть, поэтому я почитаю за благо повыше поднять свои заманчиво торчащие под днищем конечности, усевшись сверху на накачанной камере и прижавшись головой к навесу тента. Дрожа в ознобе, ожидаю рассвета.
Терзаю свою голову, стараясь откопать среди хлама ненужных мыслей единственную, которая подскажет мне верный способ, чтобы раз и навсегда починить прохудившуюся камеру. Тонкий шнур, который я до сих пор использовал для обвязки, легко сползает с обмотки, пока не высвобождаются кончики морщинистых губ, сложенных трубочкой вокруг пробки. Может быть, если взять более толстый шнур, он не будет скатываться на край. Сначала я прихвачу только самые краешки губ, а потом буду равномерно наворачивать на них виток за витком, так что шнур по спирали навьется на пробку, как проволока на барабан, постепенно все сильнее и сильнее вытягивая губы, и, наконец, крепко заткнет непослушную пасть.
С первыми проблесками зари я реализую эту идею, пустив в дело четвертьдюймовый линь от плавучего якоря. Благодарение Господу, мое новое изобретение оказалось удачным!
Спустя три часа все опять разваливается. Переделываю все заново, наложив несколько жгутов из тонкого шнура между камерой и обвязкой, и опять подсоединяю помпу. Накачиваю камеру ровно настолько, чтобы она лишь приобрела надлежащую форму.
Снизу ощущаются какие-то равномерные толчки. Выползаю на крышу, сминая своим весом тент почти до основания, и выглядываю за корму. На ощупь выясняю, что ржавый газовый баллончик, газом из которого был первоначально надут мой плот, вывалился из своей сумки. Мало того что это приманка для акул — свободно болтающийся шероховатый металлический цилиндр может быстренько протереть в моем судне еще одну дыру. Поднялся ветер, и меня захлестывают подбегающие с востока волны, а моя «Уточка» так и ходит вверх-вниз. Пробую потянуть за шланг, соединяющий баллон с нижней камерой плота. Баллончик оказывается увесистым, наверное, он полон воды и, как я ни изощряюсь, отказывается встать на место. Шланг пропущен сквозь отверстие в стенке кармана, а слабины в нем никак не достаточно для того, чтобы вытащить баллон из воды в противоположном направлении. В общем ни туда ни сюда, а оставлять все как есть тоже решительно недопустимо. Проклятье! Нащупываю под днищем чертов карман и принимаюсь вспарывать его финкой, сосредоточив все внимание на том, чтобы не выронить нож и не проткнуть камеру. Дважды руку мою пронзает острая боль. Ничего! Невелика важность порезаться. Наконец дело сделано, я втаскиваю баллончик на борт и привязываю его к верхней камере.
Руки мои налиты свинцом, все тело ломит, а голова словно набита опилками. В последние дни мне удавалось поспать не больше чем час-другой. И все это время я непрерывно мокнул в соленой воде. Фурункулы лопнули. Язвы разрастаются. То место на левом предплечье, где я стер кожу, трудясь над заплатой, воспалилось и стало гноиться. Я прихожу в отчаяние, пытаясь урвать время для всех необходимых дел — рыбалки, навигации, присмотра за опреснителем и ведения наблюдений,— ведь мне одинаково необходимы — пища, вода и отдых; я работаю, пока не валюсь без сил. Добыв еще одного спинорога, я накинулся на эту никудышную рыбешку, словно это но меньшей мере жареная утка. Необходимость снова и снова подкачивать плот лишает меня ночного сна. Больше не существует четкой грани между добром и злом, прекрасным и безобразным. Жизнь превратилась в череду сиюминутных дел, и я все глубже погружаюсь в омут страданий и изнурения. Все связанные с борьбой за существование действия я выполняю теперь рефлекторно, не задумываясь. Идет дождь, и я вскакиваю, чтобы собрать полдюжины унций воды, посматривая с тупым раздражением на целые ручьи, вливающиеся в пасть навеса, в русле которых чистая вода тут же превращается в ядовитую желчь.
С тех пор как я продырявил нижнюю камеру, погода стоит относительно спокойная. С одной стороны, это большая удача, потому что за это время я смог все-таки довести до ума заплату. Если бы при спущенной нижней I камере разыгрался еще и шторм, я бы скорее всего утонул, а уж мое снаряжение, наверняка, было бы смыто и унесено волнами. Как известно, всякая удача всегда имеет обратную сторону: во время затишья плаванье страшно замедляется. Но недавно снова задул бриз — сейчас он достиг уже 20 узлов,— море неспокойно, хотя это еще и не шторм. Я рад свежему ветру. По крайней мере мы больше не стоим на месте.
Я так ослабел, что уже неделю тому назад забросил йогу. Пока не случилась последняя авария, я полагал, что процесс истощения стабилизировался, но сейчас мое тело исхудало еще больше и с каждым днем продолжает худеть. Ничего, я выдержу. Другим приходилось и того хуже. Помни, что ты вступил на финишную прямую: никаких послаблений, прибавить шагу! Ты должен двигаться, даже если протрутся новые дыры в твоей шкуре, нельзя сейчас сходить с дистанции. В этой гонке не присуждают второго места, здесь можно только победить или проиграть. И тут не раздают ни лент, ни призов. Надо терпеть и держаться до последнего.
Неужели море снова сорвет мою заплату? Ну-ка, без паники. БЕЗ ПАНИКИ! Как-то я умудряюсь заснуть. И снится мне, будто вся моя семья, все друзья и все те, кого я в своей жизни любил, собрались на пикник. Они рассаживаются в ряд на низкой каменной стенке, а я хочу сделать их групповой снимок, но все вместе они никак не помещаются в кадр. «Тебе придется отойти подальше» — кричат они мне.— «Дальше, дальше, не останавливайся, еще дальше!» И я все пячусь назад, пытаясь втиснуть всю толпу в рамку видоискателя. Вот уже тысячи мелких пятнышек кричат: «Давай дальше!» Они все мельчают и мельчают, но в поле зрения моего аппарата вторгаются все новые и новые люди, пока каждый из них не расплывается в зыбком тумане и не исчезает совсем.
Проваливающийся пол подо мною проделывает такие выкрутасы, что нарочно не придумаешь. Я не могу даже мысленно вообразить себе, как стал бы что-то чинить в таких условиях. Заткнутая кляпом глотка клокочет и плюется, но заплата держит.
Для того чтобы копье не проткнуло нечаянно надувную камеру, а любопытные рыбы не растрепали бы в ней затычку, я накидываю на днище кусок парусины, конец которой перевешивается через передний борт и волочится в воде, прикрывая подводную часть плота. Это новшество делает «Резиновую уточку» похожей на морское чудище с широкой пастью, из которой свешивается длинный плоский язык, причем сам я торчу у нее в зеве, как большая распухшая миндалина. Я привязываю язык к плоту, чтобы он не полоскался в воде и не мешал мне целиться во время охоты.
Чем дальше мы продвигаемся на запад, тем сильнее чувствуется влияние теплых и влажных пассатов. По небу разбросаны пухлые кучевые облака, они разрастаются, как рассада цветной капусты на хорошо унавоженных грядках. То здесь, то там возникают дымчатые полосы проливных дождей. Убираю воздушного змея, которого изготовил в качестве сигнального устройства и который в конце концов пригодился, чтобы отводить с его помощью воду, подтекающую через смотровой люк. На его место я укрепляю пластиковый мешок; пользы от него меньше, но в качестве временной замены годится и это. В дождь я водружаю змея на крышу как щит, наклонив его вытянутым концом над водосборным ящиком. Увеличенная поверхность водосбора позволяет мне добыть сразу почти пинту небесного эликсира.
Вот уже которые сутки на складе моей мясной лавки нет ни грамма свежей провизии. Осталось лишь несколько засохших рыбных палочек. Выглядят они отлично, даром что провисели там целый месяц. Но чтобы разжевать эти окаменелости, отливающие янтарной желтизной, приходится сначала полчаса продержать их во рту, чтобы они немного размокли.
В последнее время у меня в голове все время крутятся две песенки из репертуара «Битлз», и я никак не могу от них отвязаться. Как поется в одной из них «I'm so tired», я действительно так устал, что определенно плохо соображаю. О'кей, почему бы тогда не встать и не приготовить себе чего-нибудь выпить? Выпить... выпить... Гм. И словно в ответ на это обескураживающее, прямо скажем, предложение, взрывается вторая песенка «Everybody needs somebody, somehow». Помогите мне! Да, конечно, мне нужен кто-то рядом, я бы согласился сейчас на кого угодно. Я без колебании принял бы любую протянутую мне руку. О, люди добрые, слышите ли вы меня здесь? Помогите! Само собой, никто не приходит, и выпить тоже нечего, но песенки не умолкают.
Грезы о еде, которые меня одолевают, стали еще более яркими, чем прежде. Иногда я ощущаю запах пищи, однажды я даже ощутил вкус воображаемого блюда, но пища эта все же не материализуется. Реальное ощущение голода не покидает меня даже после еды.
Затеваю еще одну попытку загарпунить дораду. Удар необходимо нанести сейчас сверхискусно. Моими ножами невозможно проткнуть рыбу под углом, нельзя также метить в спину — эта мускулистая часть слишком тверда для моего гарпуна. Надо как-то изловчиться, чтобы попасть рыбе в брюхо. Мои подводные мишени развивают скорость более 30 миль в час, а я должен поразить цель, попав точно в самое яблочко, площадь которого равняется нескольким дюймам. По-видимому, для меня это непосильная задача. Но дело в том, что дорады все время пинают «Резиновую уточку» по-разному, каждая на свой лад. Некоторые просто с силой бьют в днище носом или колотят по борту хвостом, а иные трутся боком об мои колени и также боком выскакивают передо мной из-под плота. Они скользят так близко, что я могу разглядеть во всех подробностях их глаза, мелкие шрамы и крошечные точки ноздрей.
Лезвия ножей вспыхивают под солнечными лучами «Уточка» испускает резиновый стон, словно в испуге расстилаю парусину, спальник и пенопластовый матрас, чтобы как можно лучше защитить плот, особенно надувные камеры. Моя острога изящно вонзается под самый спинной хребет дорады и пробивает в ней огромную дыру. Подхватываю оружие левой рукой и достаю бьющуюся рыбину из воды, подняв копье острием кверху. В яростной борьбе стараюсь пригвоздить ее к спальному мешку. Когда мой нож сокрушает наконец ее позвоночник, вокруг все забрызгано икрой и кровью. Ну и что. Зато у меня снова есть пища! Я неуклюже прыгаю от радости, вопя: «Пища! Пища!».
Самодельное копье будет служить. Я снова могу подкрепить свои силы. «Уточка» плывет хорошо, заплата держит. Запас пищи пополнился, его хватит на неделю, а то и на две. Силы мои уже были на исходе, но в эти минуты ко мне пришло второе дыхание... А может быть, уже восьмое или девятое? Полтора месяца назад я думал, что у меня есть один шанс на миллион, вчера полагал — путь меньше одного на десять. Сейчас их пятьдесят на пятьдесят.
Уроки, извлеченные при разделке спинорогов, не прошли даром: я нахожу новые мясистые участки в голове дорады. Но еще важнее для меня новые источники влаги—от жирных студенистых глазниц до слизистых покровов, расположенных глубоко в полости жабр. За борт я выбрасываю лишь дочиста обглоданный череп. Желудок рыбы набит до отказа. Я вырезаю его, аккуратно сливаю в море желудочный сок, вспарываю желудочную стенку и обнаруживаю там проглоченную дорадой крупную рыбу. Она занимала весь пищевод и желудок дорады, а мордой утыкалась прямо в кишечник. Просто не верится, чтобы дорада смогла проглотить добычу такого размера. Скорее уж можно подумать, что ей насильно затолкали в горло эту рыбу шомполом. Промываю в океанской воде незадачливую жертву. Дорада успела переварить только ее кожу. Темное мясо обладает чуть острым привкусом и почти неотличимо от мяса скумбрии. Воображаю себе, что ем рыбу под маринадом. Дополнительный фунт рыбки — какой сюрприз! И два полных комплекта внутренностей, включая икру. Первый раз за целый месяц я чувствую себя сытым. Удача пришла в критический момент. Мне очень нужно было немножко везения. Воспринимаю эту рыбу как добрый знак, точно так же, как убив, но потеряв большую дораду, я чувствовал, что то было дурным знаком. Тогда мои предчувствия оправдались. Надеюсь, что и на этот раз они меня не подведут и в моей жизни наступит светлая полоса.
В Уточкиной слободке, где я теперь живу, между ее обитателями установились самые добрососедские отношения. Рыбы стали моими добрыми знакомыми, я уже знаю их в лицо и люблю с ними поболтать, посплетничать, обсудить разные слухи. Толчок дорады, легкий клевок спинорога или скребущий звук, с которым трется о днище акула, я различаю не хуже, чем вы, услышав стук, догадываетесь, кто к вам пришел в гости; нередко я даже угадываю, которая из рыб шлепнула по плоту хвостом или боднула его головой. Я чувствую присутствие рыб, даже когда они не трогают мой плот.
Я люблю своих маленьких друзей, и мне нравится этот народец. Здесь нет одержимых политикой, амбициями или враждой, здесь царит простая, бесхитростная, мирная жизнь.
Тем не менее и в этом городке есть своя тайна. Я не смог поймать дораду на крючок, но они подплывали так близко, что я мог их загарпунить. Потом я потерял тетиву, и они стали недосягаемы, но тут же стали подплывать ко мне еще ближе. Сейчас, когда радиус действия моего копья уменьшился еще больше и силы мои поубавились, рыбы стали ложиться набок, подставляя себя под удар. Они как будто стараются мне помочь, как будто сами хотят, чтобы их плоть сметалась с моею.
Высоко в небе раскинулись два длинных тонких крыла с грациозным изгибом, позади реет раздвоенный хвост. Обычно фрегаты не рискуют залетать так далеко от суши, потому что не спят на воде и не охотятся на рыб — по крайней мере так говорится в книгах. Однако внешний вид этой птицы — характерное положение остроконечных крыльев, очертание стройного тела, форма хвоста — все бесспорно совпадает с книжным описанием. Отсюда до берега 600 миль, но птица, похоже, высматривает здесь тех же самых летучих рыбок, на которых охотятся дорады.
Приходит ночь, и погода заметно портится. Нос плота попеременно то зарывается в волны, то взлетает на гребни, и слышно, как бурлит и булькает вода возле заплаты. Качать теперь приходится гораздо чаще, каждые полчаса; очевидно, что я недолго выдержу при такой физической нагрузке.
Высокие волны с пенными гребнями время от времени обрушиваются на тент, и всякий раз через лючок над моей головой на меня проливается несколько кварт морской воды. Плот кидает вверх-вниз, и я вишу на леере, не отрывая рук, чтобы удержаться, когда «Уточка» нырнет вниз. Спать в этих условиях все равно невозможно, и я терпеливо дожидаюсь солнечного тепла. Внезапно прямо возле моего уха раздаются какие-то громкие хлопки по навесу. Выпрыгиваю наружу и успеваю схватить летучую рыбу прежде, чем ей удается скатиться обратно в море. Когда под полог «Резиновой уточки» заглядывает солнце, берусь за чистку своей ночной добычи. Голова этой красивой рыбки имеет форму перевернутого треугольника. Огромные глазищи смотрят вниз и в стороны, чтобы во время парения над водой держать поле зрения преследующих ее хищников. Обдираю крупные круглые чешуйки с плоской спинки цвета индиго и подтянутого белого брюшка, а потом срезаю длинные полупрозрачные крылышки. Раздвоенный хвостовой плавник образует букву V, причем нижняя часть почти вдвое длиннее верхней. Летучие рыбы способны пролетать более сотни ярдов, а меняя положение этого маленького руля, они могут изменить направление полета или увеличить его дальность на несколько ярдов. Слепые полеты в ночной темноте иногда заканчиваются тем, что целая стая натыкается на проходящую яхту; тогда слышится звук, как будто борт яхты прошила пулеметная очередь. Не раз поздно вечером или рано утром сон мой обрывался от болезненного толчка в грудь или в лицо. У этих летунов нежное розовато-белое мясо.
На рассвете я снова вижу над собой фрегата. Можно ли после этого верить, что они никогда не проводят ночь в море? Фрегат висит в небе почти без движения, будто нарисованный.
Тепла я так и не дождался. Солнце прячется за тучами, вокруг бушуют черные волны. Мне неохота вылезать из спального мешка, но тут шальная волна бьет «Уточку» по носу, и даже сквозь чудовищный грохот разбушевавшегося моря я слышу резкий шипящий звук. Нижняя камера становится дряблой, пол пузырем вздувается вверх, и мы опять глубоко оседаем в воду. Вычерпывать бесполезно. Высота надводного борта теперь не более нескольких дюймов. Волны гуляют по плоту как им заблагорассудится.
Пенопластовая пробка целиком выскочила из пробоины. Ну что же, значит, ее надо будет пришить и еще раз понизить в камере давление, которое растягивает собранные в узел края разрыва. Так как кратчайшее расстояние между двумя точками есть прямая, решаю задать своему плоту некоторую деформацию, чтобы при взгляде сверху он был похож на пончик с надкушенным с одной стороны краешком. Продергиваю линь от одного резинового ушка, держащего наружный леер, до другого поперек носа несколько раз и скручиваю стяжку до тех пор, пока мой плот не превращается в деформированный бублик. Затем провожу линь с носа на корму и набиваю его так, что плот складывается пополам. Благодаря этому нос приподнимается над водой и разрыв в борту предстает перед моими глазами во всей своей красе. Шилом протыкаю маленькие дырочки по краям отверстия и в пробке, пропихиваю сквозь них тонкий шнурок и привязываю пробку на место. Как я уже неоднократко проделывал раньше, снова захлестываю ее петлей из толстого линя, делаю обвязку и все прочее, что необходимо. Но когда «Уточка» снова оказывается на плаву, по резиновым камерам немолчным эхом продолжает разноситься тонкий посвист утекающего сквозь заплату воздуха.
Еще одна мучительная ночь. На море стоит зыбь высотой от шести до десяти футов. С навеса на меня стекам струйки едкой морской воды. К пронзительной, жгучей боли от фурункулов добавились еще приступы пульсирующей боли в перетруженных мышцах.
27 марта, день пятьдесят первый
В ДЕВЯТЬ ЧАСОВ УТРА МОЯ ЗАТЫЧКА ОПЯТЬ НАчинает пропускать воздух. Разделанные кусочки дорады упали на мокрый пол, теперь они неминуемо и очень быстро прогоркнут. Меня терзает боль от сотен незаживающих язв. Многие из них гноятся. На прошедшей неделе мне доводилось спать не больше четырех часов в сутки, пищи мне доставалось меньше чем по два фунта на день, а работал я почти без перерывов. Я начинаю впадать в панику.
Но это надо прекратить! Я должен запечатать проклятущую дыру! Не могу. Перетруженные руки не слушаются. Замолчи! Раз надо — значит надо. Выбора у тебя нет. Давайте, руки, ну пошевелитесь же! Я всеми силами стараюсь принудить свое избитое и измученное тело взяться за работу. Подползаю к борту, перевязываю заплату. Спускает. Перевязываю все сначала еще раз. Спускает! Раз за разом море с силой швыряет плот в пучину, волны окатывают меня водой, которая яростными потоками переливается через плот. Колющие спазмы, мучительные приступы боли, трепет и конвульсивные подергивания мышц, резкие прострелы... Я больше не могу! Я не справлюсь! Прекратить нытье! Туже, ты должен затянуть эти веревки! Отступать нельзя. Все плывет перед глазами. Слова отдаются гулким эхом. Забытые воспоминания. Руки трясутся, кожа лопается. Тяни сильнее, сильнее! Дыхание вырывается со стоном. Сжимаю помпу; пых! Сколько раз? Не знаю, не могу сосчитать. Наверное, триста. Теперь еще верхнюю камеру, эту девяносто раз. Руки мои выворачиваются из суставов, с меня будто заживо сдирают кожу. Сверху обрушивается очередная волна. Все скачет и трясется перед глазами. Спускает. Обвяжи ее снова, потуже. Стяни резину вокруг затычки. На носу безжизненно болтается опреснитель. Надо накачать камеру. Нажал, отпустил, нажал. Двести восемьдесят. Чуток передохни. Отдохнул — качай. Двести восемьдесят один... Спускает!
Валюсь с ног не в состоянии пошевельнуться. Левая рука у меня совсем онемела. Беру ее правой и кладу на грудь. Надо мной сгущается ночь. Очень холодно, но я даже не дрожу. Жизнь уходит из моего мертвеющего тела, мне остается только безвольно, как мокрой тряпице, носиться по морской поверхности. Двигаться сам я больше не способен. Онемение охватывает все члены. Это конец.
Мое тяжелое, прерывистое дыхание пресекается. Должно быть, пора. Восемь суток я бьюсь над тем, чтобы заткнуть дыру. Хватит, больше не могу. Океанские волны куда-то несут меня, заливают водой, колотят, но я не сопротивляюсь, я даже почти ничего не чувствую. Господи, как я устал. Райские кущи, нирвана, мокса — где они? Не вижу я их, не ощущаю. Одна сплошная тьма. Иллюзия это или реальность? Ах, это все лишь словесные игры религии и философии. Все слова нереальны. А время? Время — да. Минул пятьдесят один день, и еще у меня есть несколько часов. Сначала я споткнулся, потом упал и вот — погиб. Отчего это так, отчего? Вечность? Океан катит волну за волной. И я плыву по волнам, уплываю. Но нет. Я — другое дело. Углерод, вода, энергия, любовь. Это — продолжается. Они — плоть и кровь бытия, самого Бога; они — в вечном напряжении, в движении. А я погиб — пропал без следа.
Мне страшно, очень страшно. Из глаз заструились слезы, и я отпрянул от разверзнувшейся передо мной пустоты. Я всхлипываю от злости, от жалости к самому себе. Судорожно цепляюсь за кручу, силясь выползти обратно, но пальцы срываются, я теряю опору и скольжу все ниже, ниже, ниже. Истерические рыдания, вопли, прощание с надеждой. Скребу ногтями, пытаясь ухватиться хотя бы за что-нибудь, но не нахожу даже самой малой зацепки. Темнота сгущается, замыкает меня в свой круг. Сколько других глаз, подобно моим, взирали в эту бездну? Я физически чувствую их присутствие. Миллионы лиц встают со всех сторон вокруг меня, заполняя собою пространство, и шелестящим шепотом взывают ко мне: «Иди к нам, твой час настал».
<< Назад Далее >>
Вернуться: Стивен Каллахен. В дрейфе
Будь на связи
О сайте
Тексты книг о технике туризма, походах, снаряжении, маршрутах, водных путях, горах и пр. Путеводители, карты, туристические справочники и т.д. Активный отдых и туризм за городом и в горах. Cтатьи про снаряжение, путешествия, маршруты.