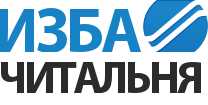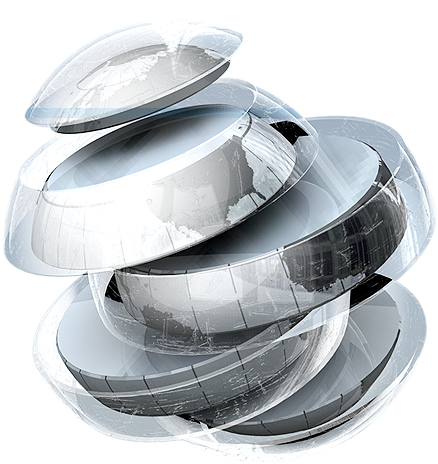Юрий
ДУРЫНИН. ДЖИМ
Юрий
ДУРЫНИН. ДЖИМ
Дурынин Юрий Федорович. Родился в 1931 г., окончил Ленинградский горный институт. По специальности — инженер-геофизик. В 1958— 1960 гг. в составе Четвертой Советской антарктической экспедиции зимовал в Антарктиде. Принимал участие в первых геолого-геофизических экспедициях по разведке шельфа Северного Ледовитого океана. Занимался поисками подземных вод в Монголии, работал в районе БАМа. В настоящее время — сотрудник лаборатории фильтрационных исследований Института гидротехники им. Б. Е. Веденеева. Кандидат географических наук. Живет в Ленинграде.
Костя всмотрелся. От полярной обсерватории что виднелась россыпью кубиков на мятой холстине склона, мчалась собака. Бежала шустро, и не успел он попристальнее разглядеть ее, как обалделая, брызжущая слюной клыкастая морда, задергалась чуть ли не в десятке шагов от них. Псина была грудастая, с длинной свалявшейся шерстью, с грязновато-белым пятном на лбу.
Он метнулся навстречу псине, повелительно, заорал что есть силы:
— Нюша, ко мне!!! Ко мне, Нюша!!!
Но пустое! Собака ловко прыгнула в сторону, пружинисто взвилась в воздух, целясь цапнуть тюленя за жирные ладоши ласт. Костя рванулся тут же к ней, извернулся в полете, I как кошка, и, распластываясь в прыжке, хватанул задние дергающиеся лапы крепкой сцепкой. Упали они вместе, грузно шлепнувшись на лед, и какое-то время крепкие когти судорожно и больно скребли замкнутые капканом ладони.
«У-у, зараза! Еще б немножко, и опять бы Джиму досталось, — подумал Костя. — Как тогда. Ведь не забыл же, мелкая душонка, натравил собаку...» Он разжал руку, с трудом дотянулся до ошейника. Встал, надежно захватив рукой сыромять ожерелья. Дрожа и вываливая язык, Нюша прижалась ко льду, виновато задрав морду вверх.
— То же, гнида! — сердился на собаку Костя, приторачивая ее к дюралевой дуге палатки капроновой оттяжкой. — Управы на вас да на вашего хозяина нет!
Нюша обдавала его жарким дыханием и топталась у его ног, вымаливая прощение. А тюлень, кажется, и не заметил собаку, разве что шевельнул сонно головой, когда развернулась возле него скоротечная баталия, и с любопытством поглядел на жаркую схватку.
Костя устало опустился на приборный ящик тут же, у палатки КАПШ-1, отломил льдинку от нароста на ребре палатки, поприкладывал к горячему лбу, кинул прочь и глянул на спящую невдалеке тушу.
— Черт те что!
В тот день гидролог долбил лед куда уж добросовестно, но синеватое, зубастое донце проруби уходило вниз неспешно. Однако настроение было хоть куда. Главное — он работает. Делать наблюдения в одиночку на морском льду не разрешалось — начальству мерещилось ЧП, но он уломал шефа, выдвинул щитом контраргументы — проведет телефон для связи с обсерваторией, возьмет продукты на непредвиденный случай, палатку поставит на надежные, ледовые якоря. Любой ветер выдержит, за это он отвечает. Что еще надо? А просить дать кого-нибудь в помощь — гиблое дело; каждый и так чуть ли не к десятку дел подключен, обычнейшая антарктическая стесненность в кадрах.
Наконец в побелевшей, с фиолетовым свечением ледовой ране, углубленной едва ли не на метр, стремительно набухая, заюрчила вода. Он хлопнул пешней еще пару раз, и пришлая, морская зеленоватая вода глянула на него таинственным, глубинным оком, соринами на котором плавали чистейшие топазы осколин и мелкая толочь шуги. Он положил пешню, очистил прорубь, выбрасывая битый лед наружу. Уф! Вытер потный лоб. Ну, большое дело сделано, пора и поесть.
Он сел тут же, возле проруби, и, откручивая колпачок термоса, то и дело поглядывал, как возле него пошевеливалась вода в голубоватой, светлой горсти пробоины, словно бормоча слова на ей одной ведомом языке.
Костя почти поднес ко рту пластмассовый стаканчик с бульоном, как ощутил тупо шорохнувшийся невнятный звук там, внизу, под ним, под мощной толщей льда. Он затаил дыхание. В тиши, что объяла его, замершего, отчетливо повторились, заметно усилившись, отдельные глуховатые толчки, схожие с похлопыванием подушки о стену. Что за чудеса? Для припая нежновато, если он, случись, трескается. Тогда что? А ну их, океаньи штучки, поди разберись, в чем тут дело, но, похоже, опасностью не пахнет. На повторный стук он беспечно, смешливо сказал: «Войдите!» — и, запрокинув голову, единым махом выпил подостывший изрядно бульон. Крякнул, засмеялся, забавляясь, и, пригибая лицо вниз, к аквариумной живи воды, глянул невзначай на прорубь. Глянул и... замер!
Из проруби, кругловато раздвинув воду, обласканно облитая влажной глазурью, невозмутимейше темнела схожая с посеревшей, старой головней морда. На светлой, в пупыристых точках одутловатой роже реденько выделялись длинные волосины, придавая ей чуть ли не кошачье обличье. Они шевелились, с их кончиков звонкими пульками торопливо падали капли.
Голова пофыркивала, тяжко отдуваясь, и выражением других чувств, кроме облегчения, себя не обременяла. Гидролог опешил. Усатая образина озадачила его в первый миг. И было отчего. Похоже, к континенту уже пошел весенний «пришелец», и теперь жди его в любой дырке на льду. Это он как-то упустил из виду, хотя, если бы и не упустил, что тогда? Не стал бы делать замеры, опасаясь помех? Чепуха, конечно.
Костя отставил термос и скорбно наблюдал, как тюлень Уэдделла _ а это был он, самый крупный из обитавших в здешних водах, — засопев, стал огрызать края отверстия, деловито расширяя прорубь. «Так, понятно,— думал Костя. — Если его не пугнуть, да посильнее, он — вселенец до конца «сезона», до самого уноса припая. Чего-чего, а эта глыбища — редкий образец привязанности к облюбованному месту. Ну а ему, труженику науки, как быть?»
Широкие, подвижные и крупные ноздри на голове тюленя тянули воздух с такой силой, что, чудилось, сотвори они еще пару таких «вдыханий» — и палатку сплющит от возникшего в ней вакуума.
— Огреть тебя, что ли? — нащупал Костя бамбуковую палку, с которой ходил по припаю.
Откусываемые от краев ледовины хрустели, как сухари, на зубах у тюленя.
— Э, да ты, я вижу, не вылезать ли часом собрался? Ничего себе гусь! Хоть бы разрешения для порядка спросил, что ли!
Костя досадливо сморщился, встал с ящика и, шаркнув жестким пологом, вышел на припай. От плоско белеющей равнины веяло железной еще прочностью. Положеньице! А ведь действительно, пробиться через такой сплошняк — ей-ей задача! Даже старые трещины «услужливо» залечены недавним, неожиданно крепким, не по весне морозом. В общем... а, подавись ты, раз уж так!
...Прошло верных часа три, когда он невдалеке заново продолбил прорубь, перетаскал имущество, вновь поставил над лункой палатку, благо тащить ее, на металлических обручах собранную, было сподручно и не труднее, чем на санках. Но тут уж лунку он сделал меньше некуда, лишь бы вошел прибор.
Рвано вытемнивалась оставленная им прорубь, из которой с сопением и фырканьем выдавливался, помогая ластами и зубами, обитатель моря. Он шумел уже вполне по-хозяйски. Досада с Кости схлынула, и он с пониманием, сочувствуя и любопытствуя, глядел на толстое, округло-гибкое веретенище пятнистого, ни дать ни взять в маскхалате, зверя, который почти выполз на лед.
С того дня они стали жить бок о бок. Джим, как назвал тюленя Костя, не совался к нему под прибор, он же, когда наскучивало крутить лебедку, то опуская, то поднимая латунный цилиндр на нужные глубины, приходил «потолковать» к его лежбине, если, конечно, тюлень не уныривал на кормежку. Но обычно тот охотнее спал, чем шарил по глубинам морским. Костя опускался на корточки возле большого, как солидный дуб, тела и, осторожничая, проводил легонько пальцами по ежичным волосинам, которые переливчато и мягко стлались по телу животного. Ему нравилось гладить живую плоть, которая отзывалась сухим пушистым теплом, вызывая в душе что-то согревающее, домашнее и трогательное.
Случилось как-то, что он тронул Джима слишком уж сильновато за грудной ласт. Тюлень шевельнул им, подтянув в сбережении, плотнее к брюху. В жесте скользнуло обидчивое — «ну, ты что, тебя же не трогают!» И Костя понял, что для Джима он некая здоровая пингвинина привычная, вроде «императора». Костя думал, что должна же быть нем пугливость, которую он ласковым подходом, терпением переборет и постепенно приручит животное к себе. А тут на тебе! Внимания нет, точно Костя совсем ему не опасен, ну полное отсутствие боязни! Хорош фрукт, ничего не скажешь! Так, может быть, подружимся, как, а?
И Костя стал, не мельтеша, конечно, чаще поигрывать с тюленем, угощать рыбинами, прихваченными с кухни, ласкать, не назойливо, но постоянно.
Время шло, солнце описывало одну за другой не заходящие за горизонт дуги, частенько смазываемые пурговыми размывами. У Кости вырисовывались аккуратные колонки цифири в блокноте, и мало-помалу безразличие к нему Джима таяло. Видно, солидные пожертвования в виде рыбин, на которые тюлень вначале не обращал внимания, делали понемножечку его поприветливее, зажигая в леноватых шариках-глазах огонек явного одобрения и любопытствующего расположения. А гидролог ловил себя уже на том, что, подходя к Джиму, каким-то иным становится он. Эх, до чего закис он, честно-то говоря, в очень уж долгой разлуке с родными местами, в трудной для его характера зимовке, на которую согласился, не зная ее растущей во времени тяжести. Джим для него стал чем-то большим, чем прирученным животным. Да, оказывается, вот так вот...
Первый истинно весенний день наступил, когда солнце расщедрилось и начало одаривать не одной лишь лучистостью, но и слабоватеньким, по широте, теплом. Тихо. Припайные дали светлы и легки, зовуще подрагивают, радуя сердце неохватными, исчирканными солнцем просторами. С десяток свободных от вахт полярников, пользуясь редким днем, кучно тронулись за фототрофеями на морской лед выцеливать объективами беспечную, разгульную шантрапу-аделек, то и дело мелькавших на припае, а то и поразвлечься в колонии «императоров», запечатлеваясь в их безразличном к людям обществе.
...Костя, увидев в иллюминатор близкую группу людей, поморщился. Все они были как на подбор — грудастые, массивные в полярной форме, здоровые и жизнерадостные. Ни к чему бы им сюда. Начнут топтаться возле палатки, хлопать по плечам, мешать запущенному ритму наблюдений. Вообще совсем не дело, когда на рабочей площадке кто-то еще будет болтаться. Он вытащил прибор из воды, отодвинул лебедку от края лунки, закрыл прорубь фанерным щитом и вышел наружу, на давящийся, с искрометью, лучистый простор. Привычно надел темные очки, натянув под них марлю от ультрафиолетовых ожогов, и стал ждать.
— Робинзону Крузо, наше вам с кисточкой! — грохотнул, подзапыхавшись, еще с дальнего подхода метеоролог Семен, забранный блестящей кожей, самый массивный из всех. — Костенега, а Костенега, уступи нам под свет юпитеров Пятницу твоего на время, а? Ишь, черт полосатый, далеко ушлепал-то как, нашагаться заставил!
Вот незадача! Как-то он, в пургу отсиживаясь, по дурьей охотке пооткровенничал в кают-компании. Есть, мол, у меня там, на припае, верная зверюха, такая, эдакая-разэдакая! Она-де и то, она-де и се, ест из рук и ластится уже к нему. Да они вдвоем — то, да они вдвоем — се! Тьфу, трепач поганый!
И вот они, пожалуйте, прибрели за порцией развлечения. Меныце всего хотелось ему видеть Джима дежурным блюдом для зубоскалов. Но Костя усмирился: «Да что они, в самом деле, тюленю сделают?» И лишь сдержанно, не выказывая особого расположения, сказал:
— Семен, ему я хозяин такой же, как и ты. У него спроси лучше,— Костя кивнул на лежбину, — когда проснется, так ли уж горит он желанием попасть в твой семейный альбом? Да и потом смотри, мало ли других тюленей лежит? Что вы к Джиму привязываетесь?
— Ну мы тихо, тихо, Костенега, не скушаем твоего красавца. Разве что поглазеет он еще кой на кого из рода человеков!
— На заре ты его не буди, на заре ему сладко так спится! — нахально, но беззлобно, жидким тенорком протянул еще один подошедший.
Подошли уже и отставшие от компании полярники, щеголяя один перед другим шутками, навели столько шума, что Костя, нахмурясь, нырнул в палатку. Шум приглох, пополз в сторону — компания развлекающихся потянулась в сторону Джима. Костя вытащил растрепанный детектив и лег на спальник — рабочий настрой был сбит.
Когда он получасом позже вышел на лед, то увидел, что возле тюленя вовсю царило суетливое веселье. Некоторые раззадоренные фотографы, которым надоело «щелкать» зверя в утюговой недвижности, пошли попихивать его унтами, чтобы в живости, объявившейся после толкания, как раз и словить редкость фотографическую.
Костя растерянно застыл, таращась на то, как творилось гнусное дело с Джимом, точно не понимая, что и он на что-то гож, если при нем обижают друга. Темный распластанный бугор шевельнулся, и овальная голова Джима приподнялась от ледяной вытайки. В сонном изумлении закрутились маслины глаз — тюлень не понимал, что нужно этим гогочущим существам от него, мирно греющего бока на солнцепеке.
Игривых верзил, тыкавших тюленя ногами, охватил истый снимательский раж, когда тот начал расправлять огромное туловище, конвульсивно заелозив по ледяной тверди. Вот тут-то и зарасчехлялись спрятанные было аппараты, затыкались сверкучие линзы чуть ли не в самые гневно дышащие ноздри животного. Ракурс, даешь ракурс! Добывая снимок получше, поредкостнее, иные полярники без жалости пошли расшевеливать жертву до яри, чуть ли не ударяя Джима по-настоящему. Но многие, верно, усовестившиеся зимовщики, подались прочь от тюленя, а Семен пытался даже оттащить ретивейших. Но какое там!
Костя, задохнувшись от гнева, рванулся к ним. Джим, устав от настырности наседавших и боли, вдруг поднялся вверх, потянув обиженную морду к небу и грузно привстав на передних, раскинутых врозь ластах. Секунда... и побежали редкой, крупной капелью светлые ядрины из щели замкнутых глаз. Зев беззвучно заразевался, влажно отблескивая розоватой пастью. Костя почти добежал до него, задыхаясь в обиде, как случилось совсем уж скверное, отвратительное действо.
Укороченный, раздавшийся в ширь человек, каюр Кононов, который и дел-то снимательских не имел, а так просто увязался за всеми, вдруг, завизжав по-бабьи, прыгнул к Джиму и нанес тому запрещеннейший, жуткий по грубости и силе удар унтом в пах. Тюлень, болезненно вздрогнув, заревел и бешено мотнул головой, да так, что враз откинулись назад горе-фотографы, а беловатой россыпью зубов пасти Джим крутнул на обидчика вовсе отчаянно! Тот отскочил далеко за всех. Эх, Джиму бы ноги! Но и то, завозившись телом, с живостью запереваливался он в направлении людей, крутя неистово головой. Однако ж куда ему с двуногими тягаться! Отдалились живо от него зимовщики, враз притихнув при виде разъяренной громадины.
Костя, подбежав, замер было, видя Джима таким, но мигом позже, в два большущих прыжка, не раздумывая, не рассуждая, оказался рядом с ревущим грозно зверем, ладясь вот-вот усмирить его.
— Убьет! — кричал Семен, пытаясь схватить Костю за полы развевающейся каэшки.
— Брысь! — дернул обратно хрястнувшую одежду гидролог и, белея лицом, повернулся к нему. — А ну давай отсюда... курортники! Да я б вас... за ваши штучки... — и прилип, вмялся преданно в ворсистую гладень грудков, охватив тело тюленя по подголовью неразжимным, сцепным охватом рук.
Джим ходуном ходил от боли и обиды. Рвался на оскорбителей. Он и Костю-то крутнул, чтобы сбросить с себя, но уцепился тот клещом кустарниковым, вмертвую, и лишь быстро-быстро шелестел шепотом, увертываясь от пасти зверя:
— Джимми, крохотуля, уймись же, уймись, ласка моя! Никому больше не дам, не дам тронуть тебя! Ну же, старикан, ну же!..
И — странное дело — в реве тюленя услышались нотки гнева стихающего, остывающего, уходящего. Отпускал, видно, человеку обиду он, утихал, мотая по-бычьи головой, опадал, выпуская силу из мышц, снова на брюхо. Костя тут же отцепился, разжал руки, отпрыгнул от тюленя, но к полярникам не подошел, а стал в отдалении, с трудом переводя дыхание. Руки у него мелко, противно дрожали. Чтобы унять их, он начал нервно оправлять на себе одежду. Полярники притихли совсем. Семен удрученно махнул им рукой, и пошла толпа от Кости и Джима, обсуждая, а что, если бы тюленьи полтонны легли на гидролога. Один только Кононов бросил издалека, погрозив кулаком Джиму:
— У-у, бегемотина, попадешь мне на выстрел — собакам на корм аль еще как! Подумаешь, недотрога! Сглодают тебя мои песики, погоди! Костя зашелся от ярости:
— Только тронь, образина, попробуй!
С того дня, как Джима «навестили» полярники, минуло чуть ли не две недели, а прорубь его по-прежнему опустело вытемнивалась, забираясь мало-помалу бугроватым ледком. Огорчительно Косте было, да еще как! Плюхнулся тюлень в воду, как подальше отбрела группа оскорбителей, и был таков. Верно, ушел с концами, но гидролог все же надеялся на возвращение Джима и, чтобы не отпугнуть животное, натаптывал тропу стороной, далеко обходя место лежбины. Грустнелось не по-шуточному, когда опускал прибор в лунку и скашивал глаз в иллюминатор, целя внимание туда, где привычно когда-то в постельничьей неге млел Джим. Ушел навсегда? Или все же, поослабнув в обиде, вернется? Кто знает. И как-то совсем осточертела, подзатянулась долгая зимовка. Скорее бы корабли со сменой вышли, что ли!
Но вот случилось как-то почти потерявшему надежду гидрологу на исходе дня, когда краснотой вошло солнце в палатку, взглянуть невзначай за круглый плекс КАПШки, и его точно тряхнуло током. «Что?! Неужели лежит?!!» Дернулась рука, контря лебедку, метнулся он к пологу, шарахнув по пути стул с аккуратной россыпью карандашей, и вынесся, кляня низкий выход, на припай. Залитый прозрачным малиновоцветьем, он был тих, и никак не верилось, что вчера еще вилась тут круговерть, громоздя мелкую плетень застругов. Костя глянул, для верности закрывшись рукой от солнца. Да, действительно, горбатясь, темнел какой-то тюлень. Но он ли, его Джим? Костя как был, без шапки и куртки, в одном свитере поспешно досеменил до животного, проваливаясь в свеженаметенный снег, и с сердца спала тревога. Знакомая коричневая пестрень на брюхе, которая у тюленей Уэдделла, что дактилооттиск человеческого пальца, неповторима.
Костя не стыдился — чего уж тут, в круглом одиночестве стыдиться! — где-то там, в себе, проступающих слез. Эх, да кто из антарктидчиков не знает, как порой вянет на зимовке душа человеческая!
Остаток вечера был для него праздником, и, плюнув на возможную, из-за позднего прихода, сердитость шефа, он присел возле Джима, поглаживая дремотное животное, и нес ему еле слышно всякую, что и несешь лишь наедине с собой, ласковую чушь. Джим вроде бы тронул головой, глаз дернулся под перепонкой, когда гидролог присел рядом, но больши — ни-ни. Ничем не отозвался. Точно открестился от знакомства. Но Костя ничего и не хотел от Джима. Приплыл, ну и ладно, и на том спасибо. Чуял гидролог, что узнал его Джим, не уползал, однако ж упорно, видно, жила в нем память от удара, нанесенного человеком, если принимал ласку его не по-прежнему, а боязливо. Вздрагивал пугливо, чуть гидролог, нежничая, пытался ласково коснуться ладонью.
Много бился потом Костя, чтобы канула, следа не оставив, обида та. Счесть нельзя, сколько рыбы перетаскал, благо прорубь у него была словно садок в рыбном магазине. Но капельно, ох и капельно таяла обида животного, если Джим и рыбу-то поедал лишь отчасти и всегда без него. И все же Костя упрямился, заботливо пестуя Джима, как дитя малое. Да и грела его самого забота такая.
...Костя заночевал в палатке, не хотелось рвать четкого ритма суточных наблюдений — пошло самое активное сезонное перемешивание вод. Ночью он спал, если позволительно так сказать, цепочечным сном, вставая по будильнику через каждые два часа, и, позевывая, брал отчеты. Нужды в освещении не было — светлынь полярного дня верно сторожилась в иллюминаторах, не требуя фонарика.
Утром он выбрался за полог... и онемел. Наискось у палатки, перекрыв набитую тропку и запустив зад едва ли не под самые оттяги, вытянулась туша, окутанная аловатым блеском от низкого, пригоризонтного солнца. Извилистой дорожкой по крепкому, промороженному за ночь насту тянулся широкий, будто приличным катком выдавленный след. Шел он туда, к лежбине. Спазм перехватил Косте горло.
— Ты!!! Даешь же, однако, старик! Резво присел, расстегивая запахнутую было каэшку — он собирался идти на станцию.
— Часом не заболел ли ты, Джимми? — Потом радостно засмеялся. — Умняга ты моя, вот уж умняга!
В нем все пело — такое тюлень выдал! Ему бы хотелось наделить Джима за этот поступок своим, чисто человеческим пониманием события, но все оказалось, естественно, прозаичным и совсем не удивительным. Что-то, видно, угнало рыбу, он вчера еще приметил, как Джим уплетал обмерзшие, давно им положенные рыбины, подзанесенные снегом. Не иначе как голод пробудил его инициативу, он, видно, заметил, как Костя притаскивал к нему свой улов, ну и двинулся, не дожидаясь приглашения, к заветной палатке. Оголодал тюлень основательно — с ходу схрупал уже порядком иссушенную, отменную страшилину. Рыба была здесь на удивление — челюсти на полдлины, с крючками, как от стального багра.
— Ну, ты ешь, ешь, не огорчайся, красавец ты мой, что-нибудь придумаем, в беде не оставлю, это точно!
С тех пор в трудные для Джима дни он кормил его и рыбными хвостами с кухни, и своей, если ловилась, добычей. Какие-то весенние перевертыши воды то вмиг пригоняли, то так же молниеносно угоняли косяки рыбы, сажая пингвинов и тюленей на диету.
Подходили к концу дела на припае, хотел ли этого Костя или нет. Время диктовало свое. Заметно водянилось небо на севере, открытая вода прорывалась к континенту. Шеф торопил:
— Все, Константин Александрович, все, закругляйтесь. У вас и так данных, как ни в одной экспедиции. Знаете, риск должен быть разумным.
Оттягивал съем палатки он конечно же из-за Джима, но, похоже, действительно пора, пора. Еще бы только раз сходить... А станция ульисто разжужжалась: ведь корабли-то были под Новолазаревской. Понимать надо! Его, как и других, живо вобрало общее, радостное мельтешение, и теперь, полегчав душевно, знал уж истинно, что с тюленем ему расстаться будет не столь трудно, как если бы тогда, в ту пору, когда он не представлял, как уйти от внезапной, беспричинной вроде бы тоски. Держаться пришлось на одной лишь воле. Но воля волей, а не оттай он Душой с Джимом... В общем Костя был искренне благодарен животному...
Утром над его ухом грохнуло ликующее:
— Бра-атва-а, а припай-то тю-тю!!
Он штопором крутнулся на койке: «Как?!» — и рванулся к фанерному лазу, ведущему из домика, который по маковку был «усажен» в наметенный пургами снег. Синий квадрат выхода. Одевался он на бегу. Били в голове молоточки: «А палатка?! Доигрался же, рыжий черт, доигрался!» В палатке оставался прибор уникальный, единственного исполнения, с которым он провел большой цикл наблюдений. Невообразим будет гнев шефа, если прибор утонет.
С плоской крыши, затесанной ветрами вровень с настом, увиделась не обычная, простынно-белая даль на весь зримый охват, а темное, даже чернильное, с широкими окружьями полотнище чистой океанской воды, языкасто заползавшей в трещины недоотколотого припая подле берега. Яркими пятнами цвели на полотнище горы айсбергов, начинавших наконец-то свободное плавание. Волнение сжало Косте грудь — бесследно сгинула ледяная огромность поля, сотеннокилометровой замычкой отделявшая их от мира.
«А палатка, палатка?» — тюкали непрестанно молоточки по извилинам. Нашаривая неточным от волнения глазом привычные ориентиры — мысок, архипелаг, островок-скаленок, мимо которых шла цепочка его следов, он легчал в настроении. Повезло! Да еще как! Отрыв припая прошел чуть до скаленка, и тычком булавочным на белизне остатков порушенного морского льда виднелась его палатка. У самого края, но стояла! А за сегодня он успеет. В такое-то затишье! Мощный ураганный сток ветра ночью, унесший льды, сменился тихим, при котором верилось лишь в одно хорошее. Желая убыстрить дело, он махнул рукой на завтрак, сунув бутерброд в карман, и заспешил к палатке.
Подходя к месту, торопливо шлепая резиновыми сапогами по слезине талой воды, покрывавшей лед, он повеселел окончательно: КАПШку даже не шевельнуло, разве что несколько трещин ответвилось от близкой воды. Почти все они чепуховые, нитяные, один намек на раскол, но вот одна, похуже, просто канал, да еще с огромной полыньей на завершении, у самой Джимовой лежбины. Он встревоженно всмотрелся. А где Джим? Тюленя на припае не было видно, канальный развод, оказывается, прошил лежбину — она была размолота, вместо нее зияла полынья. Костя растерялся. Как? Неужели так нелепо и разом обрывалось все, к чему он привык, — шутливая возня с тюленем, молчаливое сидение рядом, когда тот спал, да и просто возможность увидеть огромную тушу из палатки в часы наблюдений? А Джим тут явно чудил уже — как увидит Костю, так резво запрокинется на бок и давай ластами «аплодировать». Смехота! Конечно же Костины уроки, но забавно, куда как забавно! Нет, он не может, никак не может, чтобы все это разом... Хотя бы пожать на прощание ластину или хоть бы взглянуть на мордаху... Где же он может быть? Конечно, и штормом пугнуло, видно, ну а вдруг?
И гидролог заторопился к полынье, неуверенно заскользив по битому черепишнику льда.
Приблизившись к полынье, Костя опасливо всмотрелся. До края, за которым качалась вода, было, что называется, рукой подать, но он был весь в торосистых топорщинах, побит и поколот на блоки. Попробуй продерись! Костя приподнялся на носки. Нет, видимость скрыта — «мертвая» зона. Подумав, он опустился на корточки и, плавно шевеля корпусом, пополз к голубоватому, яркому «морцу». На нем, плавно и мягко покачиваясь, плавали отъявшиеся от монолита льдинины, на которые то и дело выплевывались из воды адельки. Им-то радость — кормежка открылась под боком колонии, что была на архипелаге. Костя добрался до отсеченного края припая и, ссыпав невзначай звонкую шелуху кристаллов фирна, завис над ним головой. Поискал глазом, поворачиваясь и налево, и направо, и под собой. Под ним блестящим, зеленоватым обрывчиком уходил в толщу бликующей, сиявшей внутренним светом воды лед. Увы! В последней надежде он протяжно свистнул и позвал: «Джим! Джимчик!» И вот тебе на! Почти под ним, под кривеньким изгибом стенки припая, кружисто разводя густую шугу, безвсплесково поднялась знакомая «головня», потешным ежиком топорща усы. Костя облегченно заулыбался:
— Ну привет, привет, старина! А я уже решил — все, отлюбовались мы друг на друга! ан нет! Довелось-таки нам увидеться, довелось. — Костя помолчал, любовно глядя на тюленя, вздохнул и продолжил: — Ну вот, старикаша, расстаемся мы, ничего не попишешь, закругляюсь я тут со своими делами. Помнить-то будешь чудака, а, Джимчик?
Тот неотрывно уставился на гидролога, вытянувшись телом по поверхности и плавно ошевеливая воду ластами. Глаз в глаз они смотрели какое-то время друг на друга, потом в движениях Джима появилась энергичность, он ловко извернулся в воде, быстрым клинком вогнал себя в близкий, раздавшийся устьицем развод в припае, и, помогая ластами, цепляясь зубами за края его, стал... взбираться к Косте! Тот застыл в удивлении, тараща глаза на тюленя. Вода бурлила под хвостом Джима, мелкая льдистая искрень, радужно цветя, сыпалась от его тела, разлеталась по сторонам красочным гейзером.
Гидролог опустился на колени и протяжно, удивленно свистнул. Переклянись, говоря кому об этом, не поверят, ни за что не поверят! Ей-ей! Запишут в такие уж прописные трепачи, страшно подумать, а оно вот, чудище-преогромень, тут уже, собачьим манером в руки тыкается!
— Дурашка ты мой! Ну и дурашка! Скажи-ка, чертяка полосатая, что отчебучил, а? И кто это вас оговаривает тварью неразумной? Шалишь, брат, мы хоть кому сто очков вперед дадим. Верно, малыш?
Он поглаживал тыкающуюся морду Джима, и его пробирал озноб от доверительной ласковости зверя. Тот, опершись на передние ласты, Вдруг неуклюже потянулся вверх, грузно обламывая ледышки, и приблизил шумно и трепетно дышащие ноздри к Костиному лицу. Гидролог отпрянул, чуть не закинувшись на спину. Тут же хохотнул и легонько хлопнул по пухляку морды.
— Верю, старик, верю. Теперь всему верю. Чертовски все это грустно, но ничего не попишешь. Да, вот, не попишешь. Разные у нас с тобой жизненные сферы. Куда как разные!
Со смехом увертываясь от Джима, он мельком, машинально кинул взгляд на полынью, из которой вылез тюлень, на канал, узким, причудливым щупальцем отдавшийся от воды океанской. В канале что-то сильно бурлило, гейзером вставали высокие струи. «Что такое?» Он поднялся с колен во весь рост, чтобы всмотреться как следует. Джим, пофырчав довольно, лег, вмяв себя в поколотый лед. Странность какая-то! В послештормовой дреме, чуть нарушаемой льдинным шуршанием да аделькиными барахтаниями в полынье, буруны несли беспокойство. Он, щурясь, всмотрелся, и мурашки заершились по спине. «Что?! Да не может быть!» Очень хотелось бы ошибиться, но это было так. К ним шли по каналу, выметывая фонтанчики зонтиком, касатки.
Киты шли кильватерным строем, тесно, как пиратская армада на боевом курсе. Направлялись они в полынью. Обычное это было дело. Каждую весну припай открывал добычливое прибрежье. А касаток не надо было учить жить. И тут уж не беда, что разломы маловаты, не беда и то, чтя запрет их бывало, что даже задний ход не выручит, а то и вовсе на льдину выложит. Все не беда. Зато там, на заманчивом мелководье, несть числа живи!
Костя озадаченно скосил взгляд на Джима. Тот дремал, утробно поурчивая и спустив хвост над краем. Уйди он, тюлень вернется в полынью, в которой вот-вот зашныряет пришлая — и еще какая! — зубастая орава, и существование друга как пить дать закончится в их мясорубочных глотках. Нет, не годится. Отманить надо туда, к КАПШке, дело знакомое. Поукладывается там, повозится, а потом, глядь, и сгинет шайка разбойная.
Черноспинными, блестящими овалами вошли касатки в «морце», быстренько выстроились в плотный веерище и ударили по кишащим в воде пингвинам. Методичный убой отчаянно переполошил птиц, они торпедно выскакивали на любые — лишь бы не утонула — льдины. Удрав от зубов, они враз обретали курьезную невозмутимость, и их, спасшихся, уже ни в коей мере не пронимали ни торопливые шлепанья крыльев то и дело исчезавших в емких утробах соплеменников, ни их суматошные крики, ни большие ржавые пятна кровищи, расползавшейся по акватории.
Одна из касатин рванула к отлому, где были Костя и Джим, ловко славировала, обвертываясь вскинутой волной, и быстро прошла рядом. Гидролог, изумившись близости, размеру зловещей «субмарины», растерялся, суетливо отпрянул назад, поскользнулся на обледенелой резине и... скатился в морскую купель.
Упав, Костя недоуменно, в дурацком минутном обалдении, застыл было на плаву, судорожно закрючив руки и ощущая тупо, как что-то булькающее, обжигающее не хуже кипятка пошло за голенища, за ворот, под завязки каэшки. Но проснулся инстинкт самосохранения, и Костя, изловчась и заспешив неимоверно, стащил сапоги с ног — один о другой, оставив меховые унты, сбросил капюшон с головы, хотел было, но не сбросил куртку, сообразив мгновенно — легкая, да на пуху, она, ни дать ни взять, спасательный жилет. Когда он минутой-другой позже расправил широко конечности по поверхности, подминая под себя шугу для поддержки на плаву, то понял, что скоро во всяком случае не потонет. И не теряя ни секунды, стал искать выход. Припай, с которого рухнул он, торчал неожиданно круто, вырастая из воды высоким барьером. Разве что уцепиться за вымоины, щели в слабом, штормом тронутом льду? Нет, пустое, отяжелевшему, мокрому, ему не изловчиться, нет. Податься в ту, Джимову, расщелину, по которой тот взобрался к нему? Да, да, только туда, скорее туда, она — единственное спасение! Но двинься тут — густая шуга так и вяжет сетью! И все же туда, туда, скорее туда!
Касатки уминали птиц лихо, резко очищая полынью от живности, и скоро в ней если и осталось что-либо «стоящее» для них, то это был предельно перепугавшийся человек, бившийся за жизнь в ледяном крошеве подле края льда. Отчаянность ситуации пугала его, заставляла терять остатки хладнокровия. Если он не взберется споро, то судьба его — утонуть, охладевшему, или — страшнее всего — уйти в желудок твари морской, да еще под хруст собственных костей. И, задыхаясь, он колотил изо всех сил по крошеву льда, оно же упруго крутилось и подловато держало чуть ли не на одном и том же месте. Силы терялись, а продвижения почти не было...
Очищенная полынья белела льдининами, плавно качавшимися от ровных, завитых, изящных волн, поднимаемых касатками. Одна из хищниц, заметив человека, плавнейше вильнула косым хвостом и водяным гладким бугром неспешно прошла возле. Остро заныло нутро — к нему присматриваются! Счастье его: ближе не подошла разбойница моря — помешали крупные блоки льда, болтавшиеся рядом. Но что ей стоит умнее славировать! Он бешено заработал руками, широко разевая рот, уклоняясь от соленых брызг, хрипло, надсадно дыша. Еще подход — и кранты ему! Все, точка! Нет!! Не хочу!!! Взвыв в слепом, заполнившем мир страхе жертвы, Костя безумно завопил:
— Джим!!!
Хлестнул этот крик обнаженностью предельной! И Джим понял, понял его. Словно дельфин, человека спасающий! Качнулся хвост над краем, вильнуло тяжко в падении тело, хлопнулось о воду, и рядом с обезумевшим, обессиленным вконец уже гидрологом всплыло мокрое, солидное веретенище. А касатина заходила на завершение дела, ловко обходя теперь тяжелые, мотающиеся кусища припая. Почуяла, разбойница, что не юркий пингвин в крике заходится, торопливости не проявляла, а плыла спокойнейше, уверенно — куда тут, в ловушке, кому деться! Костя ухватился за ближний грудной ласт Джима. Тюлень — удобства ради — перевернулся на спину, гидролог мокрой тряпкой бессильно завис на брюхе, но всего лишь на миг. Вон он, черным листом, плавник спинной движется, стружкой токарной пена от него летит! Отчаяние вновь подступило, Костя в страхе ужом заерзал на брюхе тюленя, порываясь заставить плыть тюленя к разъему спасительному:
— Джим, к разлому! Давай, дава-ай же, да-а-ва-а-ай! Где уж тут думать, в безумии-то! Но Джим таращился на него, совсем не понимая игры! Поднял голову из воды, крутит ею, дуясь шумно, туда-сюда, туда-сюда. Приподнялся Костя, как мог, на брюхе, глаза широко открыл. Узкий, тонкий силуэт касатки, выблескивая зловещей силой, был точно устремлен на них.
— Джи-и-м! Джи-и-им! Давай туда, туда дава-а-ай! Костя орал, в бессилии колотя тюленя кулаком. И тот, как понял наконец, что происходит что-то неладное, крутнулся неожиданно телом для какого-то разворота и тут же оказался у голубоватых стенок. И хоть была расщелина далеко еще. Костя — все равно уж погибать! — сильно оттолкнувшись от Джима, шлепнулся, не дотянувшись, в воду, но, к счастью, успел одной рукой зацепиться за край припая. Раздирая пальцы в кровь, подтянулся, не чувствуя свинцовой тяжести намокшей одежды, пополз вверх, к спасительной тверди. Бил его жуткий озноб. И не веря еще, ловил нарождающуюся светлинкой мысль: «Неужели ушел?» Даже здесь, наверху, он никак не мог прийти в себя, лихорадочно, сумасшедшим речитативом безостановочно бормоча: «Ушел, мамочки мои, ушел же, ушел!» Встать с четверенек сил не было, он так и отползал, торопясь, задыхаясь, от страшного края, за которым плыла смерть. Очнулся он от пронзительного, душу рвущего, тюленьего рева, что внезапно ударил по ушам. Он вздрогнул, замер, иссеченная голая ладонь, которой он цеплялся за лед, судорожно сжалась, не замечая боли. Рывком, опамятовав, вскочил на дрожащие, ровно ватные, ноги, на которых мокрым, липким мешком повисли штаны: «А Джим как же?!!»
Поблескивая под солнцем, касатина носилась почти рядом, вплотную подойдя к припаю. Она сбавила ход — шуга липла к ней, мешала. Джим, завидя кита, бился неистово подле льда, метался возле, ища спасения, и кричал едва ли не как он только что! С Кости смахнуло весь страх, поспешил он тут же к краю, нимало не думая о себе: «Джим же там!»
Близясь к тюленю, касатина, как бы примериваясь, открыла адскую пасть и мощно задышала. Нижняя ее челюсть заполоскалась в обильном наплыве воды, лед круто закачался. Костя прижался к торосине, тяжело, загнанно дыша: не отходило тело от усталости. Бессилие рвало грудь — какая он защита Джиму! Яростно схватил кусок льда повесомее, швырнул в ненасытную громадину. Но что ей это — дробинка малая! Джим погибал, и с этим надо было смириться! Взвыл Костя, дернулся и, как бы защищаясь, закрылся руками, чтобы не видеть все это. Что-то тупо стукнулось в кармане каэшки, обвислой донельзя, намокшей. «Как?!» Смазанным, но явным видением встал вчерашний день — полет на остров Дригальского, разбивочный маршрут пешком и... сигнальные пирапатроны, взятые с собой, — самолет наводить, если понадобится, в конце маршрута! Он ведь так и не выложил их, по позднему прилету, в спецящик, а утром...
Ох и рванулся Костя! Чуть не рухнул снова в купель, но прижался назад, к торосу! Чепуха, чепуха все это, главное — тут они, в руке, патроны пропарафинированные, ни в какой воде не пропадающие! Шалишь, гадина, не возьмешь!!
Разделяли их метры — тюленя и касатину. Джим уже не ревел, застыл недвижно и сипел, сипел тихо, обреченно. Костя дернул шнур запальный плавно, патрон держа в правой руке, умерив дыхание, замерев до недвижности. Острые зубы сверкали в пасти, открытой для Джима. Но s хлопнул в пасть сноп огненный, отчаянно засверкав искрами, в самую глотку, точнее уж некуда...
<< Назад Далее >>
Вернуться: Полярный круг
Будь на связи
О сайте
Тексты книг о технике туризма, походах, снаряжении, маршрутах, водных путях, горах и пр. Путеводители, карты, туристические справочники и т.д. Активный отдых и туризм за городом и в горах. Cтатьи про снаряжение, путешествия, маршруты.